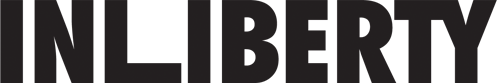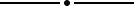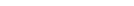[262]
Глава I
1. В предыдущем рассуждении было доказано:
1) что Адам не обладал ни благодаря естественному праву отцовства, ни благодаря определенному дару, полученному от бога, такой властью над своими детьми и таким владычеством над миром, какие ему приписывают;
2) что если бы он и обладал такой властью, то тем не менее его потомки не имели бы на нее никакого права;
3) что если бы его потомки обладали такой властью, то, поскольку не существует ни закона природы, ни закона, установленного богом, которые определяли бы, кто является подлинным наследником во всех могущих возникнуть случаях, постольку правопреемственность и, следовательно, право на власть не могли бы быть точно определены;
4) если бы и было определено такое право, то все же, поскольку сведения о том, какая линия потомков Адама является старшей, давным-давно полностью утрачены, среди различных человеческих племен и родов, существующих в мире, нет ни одного, который мог бы хоть в какой-то степени больше, чем любой другой, претендовать на роль старшего дома и обладать правом наследования.
После того как все эти предпосылки, как мне думается, были ясно доказаны, невозможно, чтобы правители, ныне существующие на земле, извлекали какую-либо выгоду или получали хотя бы малейшую тень власти из того, что принято считать основным источником всей власти, — частного владения Адама и отцовской юрисдикции. Таким образом, тот, кто не считает справедливым и обоснованным полагать, что всякое существующее в мире правление является продуктом лишь силы и насилия и что люди живут вместе по тем же правилам, что и звери, среди которых все достается сильнейшему, — чем закладывается основание для вечного беспорядка и смуты, волнений, мятежа и восстания (тех вещей, против которых так яростно выступают последователи этой теории), — по необходимости должен найти иную причину возникновения правления как тако [263] вого, другой источник политической власти и другой способ определения и узнавания тех лиц, которые ею обладают, чем те, которым учил нас сэр Роберт Ф[илмер].
2. С этой целью, мне думается, будет уместно дать определение того, что я считаю политической властью, с тем чтобы власть должностного лица над частным можно было отличить от власти отца над своими детьми, от власти хозяина над своими слугами, от власти мужа над своей женой и от власти господина над своим рабом. Хотя все эти виды власти иногда оказываются в руках одного человека, однако если его рассматривать с точки зрения этих различных отношений, то это может помочь нам отличить один вид власти от другого и показать разницу между правителем государства, отцом семейства и капитаном галеры.
3. Итак, политической властью я считаю право создавать законы, предусматривающие смертную казнь и соответственно все менее строгие меры наказания для регулирования и сохранения собственности, и применять силу сообщества для исполнения этих законов и для защиты государства от нападения извне — и все это только ради общественного блага.
Глава II. О естественном состоянии
4. Для правильного понимания политической власти и определения источника ее возникновения мы должны рассмотреть, в каком естественном состоянии находятся все люди, а это — состояние полной свободы в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица и не завися от чьей-либо воли.
Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, — никто не имеет больше другого. Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и используя одни и те же способности, должны также быть равными между собой без какого-либо подчинения или подавления, если только господь и владыка их всех каким-либо явным проявлением своей воли не поста [264] вит одного над другим и не облечет его посредством явного и определенного назначения бесспорным правом на господство и верховную власть.
5. Это природное равенство людей рассудительный Гукер считает самоочевидным и неоспоримым настолько, что делает его основанием того долга взаимной любви меж людьми, на котором он строит наши обязанности по отношению друг к другу и откуда он производит великие принципы справедливости и милосердия. Вот что он говорит: «Точно такое же естественное побуждение привело людей к осознанию того, что их долгом в не меньшей степени является и любить ближних, как самих себя; ибо, для того чтобы постигнуть вещи, которые являются равными, необходимо всем обладать одной мерой; ведь если я не могу не желать, чтобы каждый человек относился ко мне в той же мере хорошо, как он хотел бы этого для самого себя, то как же могу я рассчитывать хотя бы в какой-то степени удовлетворить это свое желание, если я сам не буду стараться удовлетворить подобное же желание, которое возникает, несомненно, у других людей, поскольку природа всех людей одинакова? Если им будет предложено что-либо противоречащее этому желанию, то это, несомненно, во всех отношениях огорчит их так же, как и меня; таким образом, если я творю зло, то я должен приготовиться к страданиям, поскольку нет никакого основания, чтобы другие люди проявили в отношении меня большую любовь, нежели я в отношении их; следовательно, мое желание любви насколько возможно более сильной со стороны равных мне по природе налагает на меня естественную обязанность питать в отношении их подобное же по силе чувство; из этого отношения равенства между нами и нам подобными естественный разум вывел для направления жизни несколько правил и заповедей, известных каждому человеку» (Церковн. полит., кн. I).
6. Но хотя это есть состояние свободы, это тем не менее не состояние своеволия; хотя человек в этом состоянии обладает неограниченной свободой распоряжаться своей личностью и собственностью, у него нет свободы уничтожить себя или хотя бы какое-либо существо, находящееся в его владении, за исключением тех случаев, когда это необходимо для более благородного использования, чем простое его сохранение. Естественное состояние имеет закон природы, которым оно управляется и который обязателен для каждого; и разум, который является этим законом, учит всех людей, которые пожелают с ним считаться, что, [265] поскольку все люди равны и независимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого; ибо все люди созданы одним всемогущим и бесконечно мудрым творцом; все они — слуги одного верховного владыки, посланы в мир по его приказу и по его делу; они являются собственностью того, кто их сотворил, и существование их должно продолжаться до тех пор, пока ему, а не им это угодно; и, обладая одинаковыми способностями и имея в общем владении одну данную на всех природу, мы не можем предполагать, что среди нас существует такое подчинение, которое дает нам право уничтожать друг друга, как если бы мы были созданы для использования одного другим, подобно тому как низшие породы существ созданы для нас. Каждый из нас, поскольку он обязан сохранять себя и не оставлять самовольно свой пост, обязан по той же причине, когда его жизни не угрожает опасность, насколько может, сохранять остальную часть человечества и не должен, кроме как творя правосудие по отношению к преступнику, ни лишать жизни, ни посягать на нее, равно как и на все, что способствует сохранению жизни, свободы, здоровья, членов тела или собственности другого.
7. И с тем чтобы удерживать всех людей от посягательства на права других и от нанесения ущерба друг другу и соблюдать закон природы, который требует мира и сохранения всего человечества, проведение в жизнь закона природы в этом состоянии находится в руках каждого человека; вследствие чего каждый обладает правом наказания нарушителей этого закона в такой степени, в какой это может воспрепятствовать его нарушению. Ведь закон природы оказался бы, как и все другие законы, касающиеся людей в этом мире, бесполезным, если бы в этом естественном состоянии никто не обладал властью проводить в жизнь этот закон и тем самым охранять невинных и обуздывать нарушителей; и если в этом естественном состоянии каждый может наказывать другого за любое содеянное тем зло, то каждый может так и поступать. Ибо в этом состоянии полнейшего равенства, где, естественно, нет никакого превосходства и юрисдикции одного над другим, то, что один может сделать во исполнение этого закона, должен по необходимости иметь право сделать каждый.
8. Таким образом, в естественном состоянии один человек приобретает какую-то власть над другим; однако все же не полную или не деспотическую власть распоряжаться [266] преступником, когда тот оказывается в его руках, распоряжаться под влиянием вспышки страстей или безграничной фантазии своей собственной воли, но только для возмездия ему в такой степени, в какой это предписывают спокойный рассудок и совесть, чтобы это соответствовало его нарушению, а именно настолько, чтобы это служило воздаянием и острасткой; ибо только эти два повода служат основанием для того, чтобы один человек законно причинил другому зло, — то, что мы называем наказанием. Преступая закон природы, нарушитель тем самым заявляет о том, что он живет не по правилу разума и общего равенства, которые являются мерилом, установленным богом для действий людей ради их взаимной безопасности, а по другому правилу; и, таким образом, он становится опасен для человечества, и те узы, которые охраняют людей от ущерба и насилия, ослаблены и нарушены им, что является преступлением в отношении всего рода человеческого, его мира и безопасности, предусмотренных законом природы. В силу этого каждый человек благодаря тому праву, которым он обладает для сохранения человечества вообще, может сдерживать или в необходимых случаях уничтожать вредные для людей вещи и, таким образом, может причинять зло всякому, кто преступил этот закон, в такой мере, чтобы заставить его раскаяться в содеянном и тем самым удержать его, а на его примере и других от подобных злодеяний. И в этом случае и по этой причине каждый человек имеет право наказать преступника и быть исполнителем закона природы.
9. Я не сомневаюсь в том, что это покажется весьма странной доктриной для некоторых людей; но прежде чем они осудят ее, я бы хотел, чтобы они разъяснили мне, по какому праву какой-либо владыка или государство могут приговаривать к смерти или наказывать чужеземца за любое преступление, совершенное им в их стране. Несомненно, что их законы, основанные на санкции, полученной в виде выраженной воли законодательного собрания, не распространяются на чужестранца. Они ему ничего не говорят, а если бы даже и говорили, то он не обязан их слушать. Законодательный орган, благодаря которому они повелевают подданными этого государства, не имеет власти над ним. Те, кто обладает верховной властью издавать законы в Англии, Франции или Голландии, для индейца таковы же, как и весь остальной мир, — люди, не облеченные властью. И следовательно, если по закону природы каждый человек не обладает властью наказывать за [267] нарушения этого закона в тех случаях, когда во здравом размышлении обстоятельства этого требуют, то я не вижу, каким образом судьи какого-либо общества могут наказывать чужеземца из другой страны, поскольку в отношении него они обладают не большей властью, чем каждый человек естественно обладает ею в отношении другого.
10. Помимо преступления, заключающегося в нарушении закона и в отходе от справедливого правления разума, когда человек настолько вырождается, что заявляет об отказе от принципов человеческой природы и становится вредным существом, встречается также обычное нанесение ущерба тому или другому лицу, и какому-либо человеку наносится вред в силу этого нарушения. В этом случае тот, кому нанесен ущерб, обладает помимо права наказания, имеющегося у него, как и у всех других людей, еще особым правом искать возмещения у того, кто причинил ему вред. И любое другое лицо, которое считает это справедливым, может также присоединиться к потерпевшему и помогать ему получить обратно от преступника столько, сколько нужно, чтобы возместить понесенный ущерб.
11. Из-за того что существуют эти два отдельных права (одно заключается в каре за преступление для острастки и для предотвращения подобных нарушений; этим правом наказания обладает каждый; другое право заключается во взимании возмещения, которым обладает только потерпевшая сторона), случается так, что судья, который, будучи судьей, обладает общим правом наказания, вложенным в его руки, может часто, когда общественное благо не требует исполнения закона, отменить наказание за преступные деяния своей собственной властью; но тем не менее он не может освободить от обязанности дать удовлетворение, которое должно получить любое частное лицо за понесенный им ущерб. Тот, кто понес ущерб, обладает правом требовать его [удовлетворения] от своего собственного имени, и только он может от него освободить. Потерпевший обладает этой властью воспользоваться собственностью или услугами преступившего закон по праву самосохранения, подобно тому как каждый человек властен наказать за преступление, чтобы воспрепятствовать его повторному совершению, по имеющемуся у него праву сохранения всего человечества и совершения всех разумных деяний, какие он может, для достижения этой цели. И таким образом, оказывается, что каждый человек в естественном состоянии обладает властью убить убийцу как для того, чтобы посредством примера, показывающего, какое наказание [268] следует за это со стороны каждого, удержать остальных от подобного преступления, которое нельзя ничем возместить, а также и для того, чтобы обезопасить людей от покушений преступника, который, отрекшись от рассудка, общего правила и мерила, данного богом человечеству, сам посредством несправедливого насилия и совершенного им убийства одного человека объявил войну всему человечеству; и следовательно, его можно уничтожить как льва или тигра, одного из тех диких кровожадных зверей, с которыми люди не могут иметь ни совместной жизни, ни безопасности. И на этом основан великий закон природы: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека» [Быт 9: 6]. И Каин настолько был убежден в том, что каждый обладает правом уничтожить такого преступника, что после убийства своего брата он восклицает: «Всякий, кто встретится со мною, убьет меня» [Быт 4: 14], настолько ясно было это запечатлено в сердцах всего человечества.
12. По этой же причине человек в естественном состоянии может наказывать и за меньшие нарушения этого закона. Возможно, будет задан вопрос: наказывать смертью? Я отвечу, что каждое нарушение может быть наказано до такой степени и с такой строгостью, чтобы это было невыгодно для преступника, дало ему повод для раскаяния и устрашило других, побудив их воздержаться от подобных поступков. Каждое преступление, которое может быть совершено в естественном состоянии, может быть в естественном состоянии также равным образом наказано, притом в таком же размере, как и в государстве. Хотя сейчас в мою задачу не входит вдаваться здесь в подробности закона природы или в вытекающие из него меры наказания, все же несомненно, что такой закон существует и он так же понятен и ясен разумному существу и исследователю этого закона, как действующие законы государств; нет, пожалуй, еще яснее, поскольку разум легче понять, чем причуды и запутанные измышления людей, преследующих противоречивые и скрытые интересы, облеченные в слова; ведь действительно именно таковы в своей большой части гражданские законы стран, которые справедливы лишь настолько, насколько они основываются на законе природы, посредством которого они должны регулироваться и истолковываться.
13. На эту необычную доктрину, а именно что в естественном состоянии каждый обладает исполнительной властью, вытекающей из закона природы, последуют, я не сомневаюсь, возражения, что неразумно, чтобы люди сами [269] были судьями в своих собственных делах, что себялюбие сделает людей пристрастными к себе и к своим друзьям и что, с другой стороны, дурной характер, страсть и мстительность заведут их слишком далеко при наказании других, а отсюда не последует ничего, кроме смятения и беспорядка, и что поэтому бог, несомненно, установил правление как таковое для ограничения пристрастности и насилия со стороны людей. Я легко допускаю, что гражданское правление является подходящим средством, избавляющим от неудобств естественного состояния, а неудобства эти, несомненно, должны быть огромными, когда люди оказываются судьями в своих собственных делах; ведь нетрудно себе представить, что тот, кто был настолько несправедлив, что нанес ущерб своему брату, вряд ли будет настолько справедлив, чтобы осудить за это самого себя. Но я бы хотел, чтобы те, кто выдвигает это возражение, помнили, что абсолютные монархии всего лишь люди, и если правление должно быть средством, избавляющим от тех зол, которые неизбежно возникают, когда люди оказываются судьями в своих собственных делах, и естественное состояние поэтому нетерпимо, то я хочу знать, что это за правление и насколько оно лучше естественного состояния, когда один человек, повелевая множеством людей, волен быть судьей в своем собственном деле и может поступать в отношении всех своих подданных, как ему заблагорассудится, причем никто не имеет ни малейшего права ставить под сомнение правоту или проверять тех, кто осуществляет его прихоть? И во всем, что бы он ни делал, поступая по рассудку, по ошибке или по страсти, ему должны подчиняться? А ведь в естественном состоянии, где люди не должны покоряться несправедливой воле другого, положение обстоит гораздо лучше; и если тот, кто судит, судит ошибочно в своем или в каком-либо другом деле, то он отвечает за это перед остальным человечеством.
14. Часто выдвигают в качестве сильнейшего возражения вопрос: «Где находятся или когда-либо находились люди в таком естественном состоянии?» На это в настоящее время достаточно ответить, что поскольку все государи и правители независимых государств во всем мире находятся в естественном состоянии, то совершение очевидно, что никогда не было и даже не будет такого положения, когда множество людей в мире не находилось бы в этом состоянии. Я назвал всех правителей независимых сообществ безразлично к тому, находятся они или нет в союзе с другими; дело в том, что не всякое соглашение кладет конец [270] естественному состоянию между людьми, но только то, когда люди взаимно соглашаются вступить в единое сообщество и создать одно политическое тело; люди могут давать друг другу обязательства и заключать другие соглашения и все же оставаться по-прежнему в естественном состоянии. Обещания и сделки, связанные с обменом etc. между двумя людьми на необитаемом острове, о которых упоминает Гарсиласо де ла Вага в своей истории Перу, или между швейцарцем и индейцем в лесах Америки, обязательны для них, хотя они всецело находятся в естественном состоянии по отношению друг к другу, ибо правдивость и выполнение обещаний свойственны людям как людям, а не как членам общества.
15. Тем же, кто утверждает, что никакие люди никогда не находились в естественном состоянии, я буду возражать, прибегая не только к авторитету рассудительного Гукера (Церковн. полит., кн. 1. разд. 10), который говорит: «Законы, о которых до сих пор упоминалось», т. е. законы природы, «связывают людей полностью именно как людей, хотя они никогда не имели какого-либо установившегося содружества, никогда не имели торжественного соглашения между собой о том, что делать или чего не делать; но поскольку мы сами по себе не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством вещей, необходимых для такой жизни, к которой стремится наша природа, — жизни, соответствующей человеческому достоинству, то, чтобы восполнить эти недостатки и несовершенства, которые свойственны нам, когда мы живем порознь и исключительно сами по себе, мы, естественно, склонны искать общения и товарищества с другими. Это было причиной того, что люди сначала объединились в политические общества». Но помимо того, я утверждаю, что все люди естественно находятся в этом состоянии и остаются в нем до тех пор, пока по своему собственному согласию они не становятся членами какого-либо политического общества; и я не сомневаюсь, что в ходе этого рассуждения мне удастся сделать это вполне ясным.
Глава III. О состоянии войны
16. Состояние войны есть состояние вражды и разрушения. И следовательно, сообщая словом или действием не об опрометчивом и поспешно принятом, но о продуманном [271] и твердом решении лишить жизни другого человека, сделавший это вовлекает себя в состояние войны с тем, в отношении кого он заявил о подобном намерении, и, таким образом, подвергает свою собственную жизнь опасности со стороны другого или всякого, кто будет помогать тому защищаться и примет его сторону. Вполне здраво и справедливо, чтобы я обладал правом уничтожить то, что угрожает мне уничтожением. Ибо по основному закону природы нужно стремиться оберегать человека насколько возможно; когда нельзя уберечь всех, то необходимо в первую очередь думать о безопасности невинных. И человек может уничтожить того, кто с ним воюет или проявляет враждебность по отношению к нему и является угрозой для его существования, по той же причине, по которой он может убить волка или льва; ведь люди эти не связаны узами общего закона разума, ими руководят только сила и насилие, и, следовательно, их можно рассматривать как хищных зверей, как опасных и вредных существ, которые несомненно уничтожат человека, как только он окажется в их власти.
17. Отсюда следует, что тот, кто пытается полностью подчинить другого человека своей власти, тем самым вовлекает себя в состояние войны с ним, — это следует понимать как объявление об умысле против его жизни. Ибо у меня имеется основание заключить, что тот, кто хочет подчинять меня своей власти без моего согласия, будет поступать со мной, добившись своего, как ему заблагорассудится, и может даже уничтожить меня, если у него будет такая прихоть; ведь никто не может желать иметь меня в своей неограниченной власти, если только он не собирается принудить меня силой к тому, что противоречит праву моей свободы, т. e. сделать меня рабом. Быть свободным от подобной силы является единственным залогом моего сохранения; и разум побуждает меня смотреть на него как на врага моей безопасности, который стремится отнять у меня свободу, обеспечивающую ее; таким образом, тот, кто пытается поработить меня, тем самым ставит себя в состояние войны со мной. Того, кто в естественном состоянии пожелал бы отнять свободу, которой обладает всякий в этом состоянии, по необходимости следует считать умышляющим отнять и все остальное, поскольку свобода является основанием всего остального. Подобным же образом того, кто в общественном состоянии пожелал бы отнять свободу, принадлежащую членам этого общества или государства, следует подозревать в умысле отнять у них [272] и все остальное и, таким образом, считать находящимися в состоянии войны.
18. Это делает законным убийство человеком вора, который не причинил ему никакой боли, не заявлял ни о каком умысле против его жизни, а только посредством применения силы захотел захватить его в свою власть, чтобы отнять у него деньги или то, что ему заблагорассудится. Поскольку он, не имея права, применяет силу, чтобы захватить меня в свою власть, то независимо от того, каковы его замыслы, у меня нет оснований предполагать, что тот, кто пожелал бы отнять мою свободу, не отнял бы у меня, когда он будет иметь меня в своей власти, и все остальное. И вследствие этого для меня законно считать его находящимся со мной в состоянии войны, т. е. убить его, если я могу; ведь именно этой опасности он по справедливости подвергает себя, кто бы он ни был, если он вызывает состояние войны и является в ней агрессором.
19. И вот здесь мы имеем ясную разницу между естественным состоянием и состоянием войны; а эти состояния, что бы ни утверждали некоторые люди, столь же далеки друг от друга, как состояние мира, доброй воли, взаимной помощи и безопасности и состояние вражды, злобы, насилия и взаимного разрушения. Люди, живущие вместе согласно разуму, без кого-либо, повелевающего всеми ими, имеющего власть судить между ними, действительно находятся в естественном состоянии. Но сила или заявление о готовности ее применить в отношении другого лица, когда на земле нет никого высшего, к кому можно было бы обратиться за помощью, — это и есть состояние войны; и именно отсутствие возможности подобного обращения дает человеку право вести войну против агрессора, хотя бы он являлся членом общества и был собратом по гражданству. Таким образом, вор, которому я не могу иначе повредить, как только обратившись к закону, если он украл все мое имущество, может быть убит мной, когда он набросится на меня, хотя бы он только хотел украсть у меня лошадь или одежду; потому что закон, который был создан для сохранения моей жизни, когда он не может вмешаться для ее спасения, как и данном случае применения силы, — а если моя жизнь будет потеряна, то это уже невозможно возместить — позволяет мне прибегнуть к самозащите и к праву войны, к свободе убить нападающего и качестве средства спасения в том случае, когда причиненное зло может быть непоправимым, поскольку нападающий не дает ни времени обратиться к нашему общему судье, ни вре [273] мени для вынесения законного решения. Отсутствие общего судьи, обладающего властью, ставит всех людей в естественное состояние; сила без права, обращенная против личности человека, создает состояние войны как в том случае, когда есть общий судья, так и в том случае, когда его нет.
20. Когда же применение силы больше не имеет места, тогда состояние войны прекращается между теми, кто находится в обществе, и обе стороны подвергаются справедливому определению закона, потому что тогда имеется возможность прибегнуть к иску за прошлую потерю и воспрепятствовать будущему ущербу. Но когда возможности подобного обращения нет, как это имеет место в естественном состоянии из-за отсутствия действующих законов и судей, обладающих властью, к которым можно обратиться, то однажды начавшееся состояние войны продолжается, причем невиновная сторона имеет право уничтожать другую при всякой возможности до тех пор, пока нападающий не предложит мир и не пожелает примирения на таких условиях, которые позволяют возместить любой уже нанесенный им ущерб и обеспечить безопасность невиновного в будущем. Тогда же, когда имеется возможность обращения к закону и к поставленным на то судьям, но этого средства лишают путем явного нарушения правосудия и бесстыдного извращения законов с целью прикрытия или оправдания насилия или ущерба со стороны каких-либо людей или группы людей, тогда трудно представить что-либо иное, кроме состояния войны. Ведь когда применяется насилие и наносится ущерб, хотя бы и руками тех, кто назначен для отправления правосудия, то это тем не менее остается насилием и ущербом, как бы ни прикрывалось оно именем, видимостью или формой закона, ибо цель закона — защищать невинного и восстанавливать справедливость посредством беспристрастного применения закона ко всем, на кого он распространяется; когда же это не делается bona fidе [добросовестно], то в отношении пострадавших ведется война, и так как им уже не к кому обратиться на земле для восстановления справедливости, то в подобных случаях им остается единственное средство — обратиться к небу.
21. Избежать этого состояния войны (когда уже нет иного прибежища, кроме неба, и когда уже исчезают все различия и не существует никакой власти, которая вынесла бы решения относительно спорящих) — вот главная причина того, что люди, образуют общество и отказываются от естественного состояния. Ведь когда имеется какая-ли [274] бо власть, какая-либо сила на земле, от которой можно получить помощь, если к ней обратиться, то продолжение состояния войны исключается и спор решается этой властью. Если бы существовал какой-либо подобный суд, какое-либо высшее судилище на земле, чтобы решить, кто прав — Иеффай или аммонитяне, то они никогда не дошли бы до состояния войны; но мы видим, что он был вынужден воззвать к небу: «Господь Судия (говорит он) да будет ныне судьею между сынами Израиля и между Аммонитянами!» (Суд. 11, 27); и после этого он сам становится обвинителем и, уповая на свое обращение к небу, ведет свое войско в бой. Вот почему в подобных спорах, когда ставится вопрос, кто будет судьей, речь не идет о том, кто именно будет решать спор; всякий знает, что Иеффай здесь говорит нам: Господь Судия рассудит. Когда на земле нет судьи, то остается обращаться к господу на небесах. Вопрос, следовательно, не в том, кто именно будет судить, поставил ли другой себя в состояние войны со мной и могу ли я, как это сделал Иеффай, воззвать к небу. Об этом только я сам могу судить по своей совести, так как отвечу за это в день Страшного суда верховному судии всех людей.
Глава IV. О рабстве
22. Естественная свобода человека заключается в том, что он свободен от какой бы то ни было стоящей выше его власти на земле и не подчиняется воле или законодательной власти другого человека, но руководствуется только законом природы. Свобода человека в обществе заключается в том, что он не подчиняется никакой другой законодательной власти, кроме той, которая установлена по согласию в государстве, и не находится в подчинении чьей-либо воли и не ограничен каким-либо законом, за исключением тех, которые будут установлены этим законодательным органом в соответствии с оказанным ему доверием. Свобода, следовательно, — это не то, о чем говорит нам сэр Р[оберт] Ф[илмер] ([«Замечания на „Политику“ Аристотеля», изд. 1679], с. 5): «Свобода для каждого — делать то, что он пожелает, жить, как ему угодно, и не быть связанным никаким законом». Свобода людей в условиях существования системы правления заключается в том, чтобы жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе и установленным законодательной властью, созданной [275] в нем; это — свобода следовать моему собственному желанию во всех случаях, когда этого не запрещает закон, и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека, в то время как естественная свобода заключается в том, чтобы не быть ничем связанным, кроме закона природы.
23. Эта свобода от абсолютной, деспотической власти настолько необходима для сохранения человека и настолько тесно с этим связана, что он не может расстаться с ней, не поплатившись за это своей безопасностью и жизнью. Ибо человек, не обладая властью над собственной жизнью, не может посредством договора или собственного согласия отдать себя в рабство кому-либо или поставить себя под абсолютную, деспотичную власть другого, чтобы тот лишил его жизни, когда ему это будет угодно. Никто не может дать большую власть, чем та, которой он сам обладает, и тот, кто не может лишить себя жизни, не может дать другому власти над ней.
Действительно, если человек по своей вине лишился права на свою собственную жизнь из-за какого-либо действия, за которое он заслуживает смерти, то тот, кто получил право на его жизнь, может, когда преступник находится в его власти, не лишать того немедленно жизни и использовать у себя на службе, и этим он не причиняет ему никакого ущерба; ведь когда бы тот ни почувствовал, что тяготы рабства перевешивают ценность его жизни, то в его власти посредством сопротивления воле своего господина навлечь на себя смерть, которой он желает.
24. Это есть совершенное состояние рабства, которое представляет собой не что иное, как продолжающееся состояние войны между законным победителем и пленником. Ведь стоит им лишь однажды заключить между собой договор и прийти к соглашению об ограниченной власти, с одной стороны, и о повиновении — с другой, как состояние войны и рабства прекращается на все время, пока действует договор; ибо, как уже говорилось, ни один человек не может по соглашению передать другому то, чем он сам не обладает, — власть над своей собственной жизнью.
Я должен признать, что мы находим случаи у евреев, а также и у других народов, когда люди продавали себя; но ясно, что это была продажа на тяжелую работу, а не в рабство. Ведь совершенно очевидно, что продавший себя человек не находился под абсолютной, безграничной деспотической властью, ибо господин не обладал властью убить его в любое время, убить человека, которого он через опре [276] деленный срок обязан был отпустить и не держать больше у себя на службе; а господин подобного слуги был столь далек от безграничной власти над его жизнью, что он не мог по собственному желанию даже искалечить его, и потеря слугою глаза или зуба делала его свободным (Исх. 21).
Глава V. О собственности
25. Будем ли мы рассматривать естественный разум, который говорит нам, что люди, однажды родившись, имеют право на самосохранение и, следовательно, на еду и питье и на тому подобные вещи, которые природа предоставляет для поддержания их существования, или же мы будем рассматривать откровение, которое передает нам рассказ о благах земных, которые бог даровал Адаму и Ною с его сыновьями, совершенно ясно, что бог, как говорит Давид (Пс. 115, 16 [Пс 13: 24]), «землю дал сынам человеческим», дал ее всему человечеству в целом. Но если это предположить, то некоторым весьма трудно себе представить, каким образом кто-либо вообще получил какую-либо вещь в собственность. Можно было бы ограничиться таким ответом: если на основе предположения, что бог отдал мир Адаму и его потомству всем вместе, трудно различать собственность, то на основе предположения, что бог отдал мир Адаму и его прямым наследникам, исключив всю остальную часть его потомства, ни один человек, кроме всеобщего монарха, не может обладать какой-либо собственностью. Но я не удовлетворюсь этим, а попытаюсь показать, каким образом у людей могла оказаться собственность на отдельные части того, что бог отдал всему человечеству сообща, и притом без какого-либо четкого соглашения между всеми членами сообщества.
26. Бог, отдавший мир всем людям вместе, наделил их также разумом, чтобы они наилучшим образом использовали этот мир для жизни и удобства. Земля и все на ней находящееся даны людям для поддержания и облегчения их существования. И хотя все плоды, которые на ней естественным образом произрастают, и все животные, которых она кормит, принадлежат всему человечеству, так как они являются стихийным порождением природы и находятся в силу этого в естественном состоянии, и никто первоначально не имеет частной собственности, исключа [277] ющей остальную часть человечества, на что-либо из них, все же поскольку они даны для пользования людям, то по необходимости должно быть средство присваивать их тем или иным путем, прежде чем они могут принести хоть какую-либо пользу или вообще пойти на благо какому-либо отдельному человеку. Плоды или оленина, которыми питается дикий индеец, не знающий, что такое огораживание, и все еще являющийся одним из общинников, должны быть его, и быть его (т. е. частью его) настолько, чтобы другой не мог больше иметь никакого права на них, прежде чем они могут в какой-то мере пойти на поддержание его жизни.
27. Хотя земли и все низшие существа принадлежат сообща всем людям, все же каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает общее право других людей. Ведь, поскольку этот труд является неоспоримой собственностью трудящегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему он однажды его присоединил, по крайней мере в тех случаях, когда достаточное количество и того же самого качества [предмета труда] остается для общего пользования других.
28. Тот, кто питается желудями, подобранными под дубом, или яблоками, сорванными с деревьев в лесу, несомненно, сделал их своей собственностью. Никто не может отрицать, что эта еда принадлежит ему. Я спрашиваю, когда они начали быть его? когда он их переварил? или когда ел? или когда варил? или когда принес их домой? или когда он их подобрал? И совершенно ясно, что если они не стали ему принадлежать в тот момент, когда он их собрал, то уже не смогут принадлежать ему благодаря чему бы то ни было. Его труд создал различие между ними и общим; он прибавил к ним нечто сверх того, что природа, общая мать всего, сотворила, и, таким образом, они стали его частным правом. И разве кто-нибудь сможет сказать, [278] что он не имел права на эти желуди или яблоки, которые он таким образом присвоил, поскольку он не имел согласия всего человечества на то, чтобы сделать их своими? Было ли это воровством — взять себе таким образом то, что принадлежало всем вместе? Если бы подобное согласие было необходимо, то человек умер бы с голоду, несмотря на то изобилие, которое дал ему бог. Мы видим в случаях общего владения, остающегося таким по договору, что именно изъятие части того, что является общим, и извлечение его из состояния, в котором его оставила природа, кладут начало собственности, без которой все общее не приносит пользы. А изъятие той или другой части не зависит от четко выраженного согласия всех совместно владеющих. Таким образом, трава, которую щипала моя лошадь, дерн, который срезал мой слуга, и руда, которую я добыл в любом месте, где я имею на то общее с другими право, становятся моей собственностью без предписания или согласия кого-либо. Труд, который был моим, выведя их из того состояния общего владения, в котором они находились, утвердил мою собственность на них.
29. Если бы требовалось ясно выраженное согласие каждого совладельца на то, чтобы кто-либо взял себе любую часть того, что дано в общее владение, то дети или слуги не могли бы разрезать мясо, которое их отец или хозяин дал им всем, не выделив каждому его особой доли. Хотя вода, бьющая из ключа, принадлежит каждому, но кто же станет сомневаться, что вода, находящаяся в кувшине, принадлежит только тому, кто ее набрал? Его труд взял ее из рук природы, где она была общей собственностью и принадлежала одинаково всем ее детям, и тем самым он присвоил ее себе.
30. Таким образом, этот закон разума делает оленя собственностью того индейца, который его убил; разрешается, чтобы вещи принадлежали тому, кто затратил на них свой труд, хотя до этого все обладали на них правом собственности. И среди тех, кого считают цивилизованной частью человечества, кто создал и умножил положительные законы для определения собственности, этот первоначальный закон природы, определяющий начало собственности на то, что прежде было общим, все еще существует; и в силу этого закона любая рыба, которую кто-либо выловит в океане — в этом огромном совместном владении всего человечества, каким он все еще остается, — а также любая куропатка, которую кто-либо поймает, становится благодаря труду того, кто извлекает их из состояния общего [279] владения, в каком они были оставлены природой, собственностью того, кто над этим потрудился. И даже у нас заяц, на которого кто-либо охотится, считается собственностью того, кто преследует его во время травли; так как это животное все еще считают общим владением, а не частной собственностью человека, то кто бы ни затратил свой труд на поиски и преследование любого представителя этого вида, тем самым извлекает его из природного состояния, в котором он был общим, и здесь начинается собственность.
31. На это, пожалуй, возразят, что если собирание желудей или других земных плодов и т. п. дает на них право, то тогда каждый может забрать себе столько, сколько захочет. На это я отвечу: нет, не так. Тот же закон природы, который таким путем даст нам собственность, точно так же и ограничивает размеры той собственности. «Бог дал нам все обильно» (1 Тим. 6, 17) — вот голос разума, подтвержденный вдохновением. Но для чего он дал нам это? Для наслаждения. Человек имеет право обратить своим трудом в свою собственность столько, сколько он может употребить на какие-нибудь нужды своей жизни, прежде чем этот предмет подвергнется порче. А то, что выходит за эти пределы, превышает его долю и принадлежит другим. Ничто не было создано богом для того, чтобы человек это портил или уничтожал. И таким образом, если учесть изобилие природных благ, которое было в мире длительное время, и небольшое количество людей, использовавших эти блага, если учесть также, на какую малую часть этих припасов могло распространиться трудолюбие одного человека, дабы накопить в ущерб другим, в особенности если держаться в границах, установленных на основании того, что можно было ему использовать, то становится ясно, что тогда оставалось мало места для ссор или споров относительно созданной подобным образом собственности.
32. Но главным предметом собственности являются теперь не плоды земли и не звери, которые на ней существуют, а сама земля, которая заключает в себе и несет с собой все остальное; мне думается, ясно, что и эта собственность была приобретена таким же образом, как и предыдущая. Участок земли, имеющий такие размеры, что один человек может вспахать, засеять, удобрить, возделать его и потребить его продукт, составляет собственность этого человека. Человек как бы отгораживает его своим трудом от общего достояния. Его право не утрачивается, если даже и сказать, что каждый обладает равным с ним правом на эту [280] землю и, следовательно, он не может присвоить ее, не может огородить ее без согласия всех своих собратьев, всего человечества. Когда бог отдал мир всем людям вместе, он приказал человеку трудиться, и то жалкое состояние, в котором тот находился, требовало этого от него. Бог и разум человека приказывали ему покорить землю, т. e. улучшить ее на благо своей жизни, и для этого вложить в нее нечто ему самому принадлежащее, его труд. Тот, кто, повинуясь этой заповеди бога, покорял, вспахивал и засевал какую-либо часть ее, тем самым присоединял к ней то, что было его собственностью, на которую другой не имел права и которую не мог, не причиняя ущерба, взять от него.
33. Подобное присвоение какого-либо участка земли посредством его улучшения также не наносило ущерба какому-либо другому человеку, поскольку все еще оставалось достаточно такой же хорошей земли, и в большем количестве, чем то, которое могли бы использовать люди, еще не обеспеченные ею. Таким образом, на деле никогда для других не оставалось меньше, если кто-либо отчуждал часть для себя; ведь тот, кто оставляет столько, сколько может использовать другой, — все равно что не берет совсем ничего. Никто ведь не мог считать, что ему нанесен ущерб, если другой человек напился, пусть и большими глотками, когда для другого оставалась целая река той же воды, из которой он мог утолять свою жажду. А с землей и с водой, где и того и другого достаточно, дело обстоит совершенно одинаково.
34. Бог отдал мир всем людям сообща; но так как он отдал им его для их блага и для того, чтобы они могли извлечь из него наибольшие удобства для жизни, то нельзя предположить, будто бы он хотел, чтобы мир всегда оставался в общем владении и невозделанным. Он дал его для того, чтобы им пользовались прилежные и рассудительные (и труд давал им право на это), а не для прихоти или алчности сварливых и вздорных. Тот, кому осталось для улучшения столько же земли, сколько было уже занято, не должен был сетовать, не должен вторгаться туда, где уже было достигнуто улучшение трудом другого; если он так поступал, то ясно, что он желал воспользоваться трудами другого, на что он не имел права, а не землей, которую бог дал ему вместе с другими для того, чтобы ее обрабатывать, и которой осталось еще столько же, сколько уже занято, и, больше, чем он мог бы с пользой распорядиться или охватить своим трудолюбием.
[281] 35. Верно, что в Англии или в любой другой стране, где есть общая земля и где правление подчиняет много людей, обладающих деньгами и ведущих торговлю, никто не имеет права огораживать или присваивать какую-либо часть ее без согласия всех совладельцев, поскольку эта земля остается в общем владении по договору,т. e. по закону страны, который нельзя нарушать. И хотя эта земля является общей для некоторых людей, она не является таковой для всего человечества, но представляет собой общее владение данной страны или данного прихода. Кроме того, часть, оставшаяся после подобного огораживания, уже не будет для остальных совладельцев такой же, как весь участок, когда все они могли использовать его целиком, в то время как вначале и при первом заселении огромного общего владения — мира — дело обстояло совершенно иначе. Закон, которому подчинялся человек, скорее был в пользу присвоения. Бог приказал, и собственные нужды человека заставляли его трудиться, и его неотъемлемой собственностью было все, к чему он прилагал свой труд. Как мы видим, подчинение земли человеческому труду, или ее возделывание, и владение ею связаны друг с другом. Одно давало право на другое. Таким образом, бог, приказав покорять землю, давал тем самым основание для присвоения; а условия человеческой жизни, которые требуют труда и материалов для работы, по необходимости вводят частную собственность.
36. Меру собственности природа правильно установила в соответствии с тем, как далеко простираются труд человека и его жизненные удобства: никто не мог бы подчинить себе своим трудом, или присвоить себе все, и никто не мог бы использовать для удовлетворения своих потребностей больше, чем только незначительную часть всего этого; так что этим путем ни одному человеку невозможно было нарушить права другого или приобрести себе собственность в ущерб своему соседу, у которого оставалось столь же хорошее владение и такой же величины (после того как тот изъял свое), как и до того, как это было присвоено. В первые века от сотворения мира, когда людям больше угрожала опасность затеряться, отдалившись от своих товарищей, в существовавших тогда огромных пустынных просторах земли, чем испытывать затруднения от недостатка места для земледелия, эта мера действительно ограничивала владения каждого человека очень скромными размерами, определявшимися тем, что он мог себе присвоить, не нанося ущерба другому. Еще и теперь, хотя мир кажется [282] переполненным, эту же меру все еще можно применить без ущерба для кого бы то ни было. Предположим, что какой-либо человек или семья находятся в таком же состоянии, какое существовало, когда мир впервые заселялся детьми Адама или Ноя; пусть он поселится в каких-либо отдаленных пустынных местностях Америки, и мы увидим, что те владения, какие он сможет себе приобрести, исходя из того мерила, которое мы дали, не будут очень обширными, и не будут даже и теперь наносить ущерб остальной части человечества, и не будут давать другим повод для жалоб или считать себя потерпевшими ущерб от посягательств этого человека, хотя в настоящее время человеческая раса распространилась во все уголки земного шара и бесконечно превосходит то небольшое число людей, которое было вначале. Более того, избыток земли представляет столь небольшую ценность без труда, что даже в Испании, как я слышал из достоверных источников, человеку могут разрешить пахать, сеять и собирать урожай без всяких помех на земле, на которую у него нет других прав, кроме того, что он ее использует. Тамошние жители, напротив, даже считают себя обязанными тому, кто благодаря своему прилежанию получил дополнительное количество зерна, в котором они нуждались, с заброшенной и, следовательно, бесплодной земли. Так это или не так, я не придаю этому особого значения; однако смею открыто утверждать, что то же самое правило собственности, согласно которому каждый человек должен иметь столько, сколько он может использовать, могло бы по-прежнему сохранять силу в мире, не стесняя кого-либо, поскольку в мире достаточно земли для того, чтобы удовлетворить двойное количество населения, если бы только не изобретение денег и молчаливое соглашение людей о придании им ценности не ввело (по соглашению) большие владения и право на них; каким образом это было сделано, я скоро покажу более подробно.
37. Несомненно, что вначале, до того, как желание иметь больше, нежели нужно человеку, изменило внутреннюю ценность вещей, которая зависит только от их полезности для жизни человека, или до того, как люди согласились, что маленький кусочек желтого металла, который может сохраняться, не истираясь и не ржавея, будет обладать такой же ценностью, как огромный кусок мяса или целая куча зерна, хотя люди имели право присваивать благодаря своему труду каждый для себя столько даров природы, сколько каждый мог использовать, все же это не могло быть слишком большим и не могло наносить ущерб [283] другим, так как подобное же изобилие все еще оставалось для тех, кто хотел приложить такое же старание. К этому я должен добавить, что тот, кто присваивает землю благодаря своему труду, не уменьшает, а, напротив, увеличивает общий запас, имеющийся у человечества; ведь продукты, идущие на поддержание человеческой жизни, даваемые одним акром огороженной и обработанной земли (говоря строго об одном и том же продукте), по количеству в десять раз превосходят те, которые дает акр такой же плодородной земли, которая лежит невозделанной в общем владении. И следовательно, тот, кто огораживает землю и получает с десяти акров гораздо большее количество необходимых для жизни вещей, чем он мог получить со ста, оставленных в естественном состоянии, дает человечеству, можно сказать, девяносто акров; ведь теперь его труд снабжает его продовольствием с десяти акров, какое было бы продукцией ста акров, лежащих невозделанными в общем владении. Я здесь расценил возделанную землю очень низко, исчисляя ее продукт как десять к одному, когда на самом деле правильнее было бы говорить о ста к одному. Ибо, спрашиваю я, разве может тысяча акров земли, находящейся в диких лесах и невозделанных пустошах Америки, оставленной в естественном состоянии, без какого-либо улучшения, пахоты или животноводства, дать своим нуждающимся и жалким обитателям столько же жизненных благ, сколько дают десять акров столь же плодородной земли в Девоншире, где они хорошо возделаны?
До присвоения земли тот, кто собирал столько диких плодов, убивал, ловил или приручал столько животных, сколько мог, тот, кто подобным образом затрачивал свои усилия на какие-либо продукты, стихийно произведенные природой, чтобы каким-то образом изменять их по сравнению с тем состоянием, в котором их создала природа, приложив к ним свой труд, тем самым приобретал их в собственность. Но если они погибали, находясь в его владении, без положенного для них применения, если фрукты гнили или оленина протухала до того, как он мог их потребить, то он нарушал общий закон природы и подлежал наказанию; он отрывал от доли своего соседа, так как он имел право только на то, что было необходимо для его потребностей, дабы эти продукты могли служить для обеспечения его жизни.
38. Такой же мерой определялось и владение землей; на все то, что он выращивал и жал, складывал и использовал [284] до того, как оно портилось, он имел особое право; какие бы пастбища он ни огораживал, какое бы количество скота он ни держал, и ни кормил, и ни использовал, весь этот скот и продукты также были его. Но если трава на его огороженном участке сгнивала на корню либо урожай на его полях погибал, не будучи собранным и сложенным, то этот участок земли, несмотря на его огораживание, все же следовало рассматривать как пустошь, и он мог быть владением любого другого человека. Так, например, вначале Каин мог взять себе столько земли, сколько мог обработать, и сделать эту землю своей собственностью, и все же оставалось достаточно для того, чтобы овцы Авеля могли кормиться; нескольких акров хватило бы для владений их обоих. По мере же роста семей и по мере того, как трудолюбие увеличивало их имущество, их владения расширялись соответственно с нуждою в них; однако все еще земля находилась в общем владении без фиксированной собственности на те участки, которыми они пользовались, пока они не объединились в сообщества, стали вести оседлый образ жизни и построили города; и тогда по согласию они с течением времени стали устанавливать границы своих территорий, и пришли к соглашению со своими соседями об их размерах, и по своим собственным законам установили размеры владений людей, принадлежавших к одному обществу. Ведь мы видим, что в той части мира, которая была заселена первой и поэтому, вероятнее всего, должна была иметь больше обитателей еще даже во времена Авраама, они свободно странствовали туда и сюда со своими отарами и стадами, доставлявшими им средства к существованию; и Авраам это делал в той стране, где он был чужеземцем. Из этого явствует, что по крайней мере большая часть земли находилась в общем владении, что жители не придавали ей ценности, а также не претендовали на собственность большую, чем они могли использовать. Но когда где-нибудь не хватало места для того, чтобы их стада могли пастись вместе, тогда они по согласию, подобно тому как это сделали Авраам и Лот (Быт. 13, 5), разделялись и увеличивали свои пастбища там, где им больше было по душе; и по той же самой причине Исав ушел от отца своего и брата своего и поселился на горе Сеир (Быт. 36, 6).
39. И таким образом, не предполагая, что Адам имел какое-либо право частного владения и собственности на весь мир, не распространявшееся на всех остальных людей, — а доказать это нельзя никоим образом, равно как и вывести чью-либо собственность из этого, — но предпо [285] ложив, что мир был дан, как это и было в действительности, всем детям человеческим вместе, мы видим, как труд мог принести людям определенное право на владение несколькими участками для своих личных надобностей; здесь уже не могло быть сомнения в праве и не было места для ссор.
40. Не является также и странным, как это, пожалуй, может показаться до размышления, что собственность, возникшая благодаря труду, может перевесить общность владения землей. Ведь именно труд создает различия в стоимости всех вещей; и пусть каждый поразмыслит, какова разница между акром земли, засаженной табаком или сахарным тростником, засеянной пшеницей или ячменем, и акром той же земли, лежащей невозделанной в общем владении, на которой не ведется никакого хозяйства, и он обнаружит, что улучшение благодаря труду составляет гораздо большую часть стоимости. Мне думается, что будет весьма скромной оценкой, если сказать, что из продуктов земли, полезных для человеческой жизни, девять десятых являются результатом труда. И даже более того; если мы будем правильно оценивать вещи, которые мы используем, и распределим, из чего складывается их стоимость, что в них непосредственно от природы и что от труда, то мы увидим, что в большинстве из них девяносто девять сотых следует отнести всецело на счет труда.
41. Не может быть более ясного доказательства этому, чем то, которое являет ряд американских племен; они имеют обширные земельные владения, и им не хватает всех жизненных благ; природа одарила их так же щедро, как и любой другой народ, средствами к довольству, т. e. плодородной почвой, которая в состоянии в изобилии производить все, что может дать пищу, одежду и удовольствия; и все же эти племена, так как их земли не улучшаются благодаря труду, не обладают и одной сотой тех благ, которыми мы наслаждаемся; и король обширной и плодородной местности там питается, одевается и живет хуже, чем поденщик в Англии.
42. Чтобы сделать это несколько яснее, давайте проследим путь некоторых самых обычных вещей, удовлетворяющих наши жизненные потребности, на их различных стадиях, до того, как мы начинаем их использовать, и посмотрим, какую часть своей стоимости они получают благодаря человеческому усердию. Хлеб, вино и сукно являются обиходными вещами и имеются в огромном количестве; и тем не менее желуди, вода и листья или шкуры были бы [286] нашими хлебом, питьем и одеждой, если бы труд не снабжал нас более полезными товарами. Ведь если хлеб ценнее желудей, вино ценнее воды, а сукно или шелк ценнее листьев, шкур или мха, то всем этим мы целиком обязаны труду и усердию; одни из этих вещей — это та пища и одежда, которыми снабжает нас непосредственно, без нашей помощи, природа; другие же — это те продукты, которые изготовляют для нас наше усердие и наши старания. Тот, кто сравнит, насколько одни из этих вещей превосходят другие по ценности, увидит, насколько труд составляет гораздо большую часть стоимости вещей, которыми мы наслаждаемся в этом мире; а земля, которая дает сырье, вряд ли должна учитываться хоть в какой-то мере или же должна, самое большее, включаться как очень маленькая часть ее, такая маленькая, что даже у нас та земля, которая целиком предоставляется природе, которую не превращают в пастбище, пашню или сад, называется пустошью, какой она в сущности и является; и мы видим, что польза от такой земли почти что равна нулю. Это показывает, насколько количество людей более важно, чем обширность владений, и что в увеличении земель и правильном их использовании и состоит великое искусство правления, и тот правитель, который будет столь мудр и богоподобен, что установит законы свободы для защиты и поощрения честного усердия людей против сил угнетения и узости партий, в скором времени станет неодолим для своих соседей. Но это между прочим. Вернемся к нашему рассуждению.
43. Акр земли, который приносит здесь двадцать бушелей пшеницы, и другой акр земли в Америке, который при той же затрате труда принес бы столько же, обладают, несомненно, одинаковой естественной внутренней стоимостью. И все же прибыль, которую человечество получает от одного, за год составляет 5 фунтов стерлингов, а от другого, возможно, не составит и одного пенни, если все, что получил от этого акра индеец, оценить и продать здесь; во всяком случае, скажу по истине, не составит и одной тысячной. Следовательно, именно труд придает земле большую часть стоимости, без него она вряд ли что-нибудь стоила; именно ему мы обязаны большей частью всех ее полезных продуктов; ведь солома, мякина, хлеб, полученные с этого акра пшеницы, имеют большую ценность, чем продукты с одного акра такой же хорошей земли, которая лежит невозделанной, и все это является результатом труда. Ибо в хлебе, который мы едим, нужно учитывать не [287] только труд земледельца, жнеца и молотильщика и пот пекаря; сюда нужно прибавить и труд тех, кто приручал быков, кто добывал руду и камень и ковал железо, кто рубил и пилил деревья, пошедшие на постройку плуга, мельницы, печи и всяких других приспособлений, число которых очень велико и которые необходимы для того, чтобы это зерно из посеянных семян превратилось в хлеб: все это должно относиться на счет труда и рассматриваться как его результат; природа и земля дали лишь почти ничего не стоящие сами по себе вещи. Если бы мы составили список тех вещей, которые созданы человеческим трудом и которые используются для получения каждого каравая хлеба до того, как он попал к нам на стол, то такой список выглядел бы довольно необычно, перечисли мы все эти вещи: железо, дерево, кожа, кора, лес, камень, кирпич, уголь, известь, парусина, красители, смола, деготь, мачты, канаты и все материалы, используемые на корабле, который доставил любую из вещей, употребляемых любым из рабочих в процессе любой стадии работы; все это почти невозможно подсчитать, перечень всего был бы по крайней мере слишком длинным.
44. Из всего этого очевидно, что хотя предметы природы даны всем сообща, но человек, будучи господином над самим собой и владельцем своей собственной личности, ее действий и ее труда, в качестве такового заключал в себе самом великую основу собственности и то, что составляло большую часть того, что он употреблял для поддержания своего существования или для своего удобства, когда изобретения и искусство улучшили условия жизни, было всецело его собственным и. не находилось в совместном владении с другими.
45. Таким образом, труд вначале давал право на собственность всякий раз, когда кому-либо было угодно применить его к тому, что находилось в общем владении, и этого общего владения в течение долгого времени оставалось гораздо большая часть и еще и сейчас остается больше, чем то, что человечество использует. Люди сначала по большей части довольствовались тем, что им для их нужд непосредственно, без их помощи, предоставляла природа; и хотя впоследствии в некоторых частях земного шара (где рост населения и скота, равно как и употребление денег, способствовал тому, что земли стало мало и поэтому она начала представлять известную ценность) некоторые сообщества установили границы своих отдельных территорий и посредством созданных ими самими законов упоря [288] дочили владения частных лиц в своем обществе и, таким образом, путем договора и соглашения утвердили собственность, начало которой положили труд и усердие, а при заключении союзов между различными государствами и королевствами они публично заявляли (либо же это молча подразумевалось) об отказе от всех притязаний и прав на землю, находившуюся во владении другого, и по общему согласию отказались от своих претензий, вытекавших из естественного общего права, которое они первоначально имели на эти местности, и, таким образом, посредством положительного соглашения утвердили у себя собственность в различных частях и уголках земли; и все же до сих пор имеются огромные земельные угодья, которые (их обитатели не присоединились к остальному человечеству и не участвовали в соглашении об использовании их общих денег) лежат невозделанными, и этих земель больше, чем используют или могут использовать живущие на них люди, и, таким образом, эти земли все еще находятся в общем владении. Хотя подобный случай вряд ли может иметь место среди той части человечества, которая договорилась об употреблении денег.
46. Большую часть тех вещей, которые действительно полезны для человеческой жизни и которые необходимость поддерживать свое существование заставляла искать первых обитателей земли, как и американцев сейчас, составляют обычно скоропортящиеся вещи, такие, которые, если они не будут использованы, испортятся и погибнут сами по себе. Золото, серебро и бриллианты — это вещи, которым придали стоимость прихоть или соглашение, а не их действительная полезность и необходимость для поддержания жизни. Так вот, из тех хороших вещей, которые природа давала всем, каждый имел право (как уже говорилось) брать столько, сколько мог использовать, и получал в собственность все, на что он мог воздействовать своим трудом; все, на что простиралось его трудолюбие и что он выводил из естественного состояния, принадлежало ему. Тот, кто собирал сто бушелей желудей или яблок, тем самым получал их в собственность; они становились его добром, как только он их собрал. Он должен был заботиться только о том, чтобы использовать их до того, как они испортятся, в противном случае он брал больше своей доли и грабил других. И действительно, было глупым, да к тому же и бесчестным, накапливать больше, чем он мог использовать. Если он отдавал часть кому-либо другому, чтобы эти продукты не пропали бесполезно, будучи его собствен [288] ностью, то тем самым он их тоже использовал. А если он менял сливы, которые могли сгнить через неделю, на орехи, которые он мог бы есть целый год, то он никому не наносил ущерба; он не расточал общего запаса, не уничтожал ни одной части от той доли продуктов, которая принадлежала другим, поскольку ничто не погибало бесполезно в его руках. Далее, если он отдавал свои орехи за кусок металла, цвет которого ему понравился, или обменивал овец на ракушки или шерсть на искрящийся камешек или на бриллиант и хранил их всю свою жизнь, то он не нарушал прав других; он мог накапливать этих долговечных вещей столько, сколько ему угодно, потому что выход за пределы его правомерной собственности состоит не в том, что у него много имущества, а в том, что часть его портится, не принося ему никакой пользы.
47. И таким образом было введено употребление денег, некоей долговечной вещи, которая может храниться у человека, не подвергаясь порче, и которую люди принимают по взаимному соглашению в обмен на действительно полезные, но недолговечные средства существования.
48. И поскольку различные степени усердия способствовали тому, что люди приобретали имущество различных размеров, то это изобретение денег дало им возможность накапливать и увеличивать его. Предположим, что имеется остров, не имеющий никакой возможности вести торговлю с остальным миром; при этом на острове всего сотня семейств, но там имеются овцы, лошади, коровы и другие полезные животные, съедобные плоды и земля в таком количестве, что урожай с нее мог бы прокормить в сто тысяч раз больше народа, но ничто на самом острове либо по причине своей обычности, либо по причине недолговечности не в состоянии заменить деньги. Какая же причина была бы тогда у кого-либо для увеличения своих владений — или за счет плодов своего собственного трудолюбия, или в обмен на подобные же скоропортящиеся полезные товары других — сверх того, что необходимо для его семьи и для создания обильных запасов? Там, где нет ничего такого, что обладало бы долговечностью, редко встречалось и представляло бы такую ценность, что это стоило бы накапливать, там люди не будут склонны увеличивать свои земельные владения, даже если бы земля была очень плодородной и они могли бы свободно ее занимать. На что, спрашиваю я, понадобились бы человеку десять тысяч или сто тысяч акров превосходной земли, хорошо возделанной и с большим количеством скота на ней, если бы дело про [290] исходило в середине удаленных от моря частей Америки, где у человека не было бы надежды на торговлю с другими частями света, торговлю, которая бы принесла ему деньги благодаря продаже продуктов? Эту землю не стоило бы огораживать, и мы увидели бы, что он снова отдает в нераздельное владение дикой природе все, что превышало бы то количество, которое необходимо для обеспечения жизненными благами его самого и его семью.
49. Так вот, вначале весь мир был подобен Америке, и в еще большей степени, чем теперь, ведь тогда нигде не знали такой вещи, как деньги. Но стоит только найти нечто, что могло бы использоваться и пениться в качестве денег среди его соседей, и вы увидите, что тот же самый человек сразу начнет увеличивать свои владения.
50. Но поскольку золото и серебро, которые лишь в незначительной степени необходимы для существования человека в сравнении с пищей, одеждой и средствами передвижения, имеют свою стоимость лишь благодаря соглашению людей, причем все же труд главным образом является мерилом, то очевидно, что люди согласились на непропорциональное и неравное владение землей, обнаружив благодаря молчаливому и добровольному согласию способ, посредством которого человек может честно иметь гораздо большее количество земли, нежели то, с которого он может использовать продукт; он состоит в том, чтобы получать в обмен на свои излишки золото и серебро, которые можно накапливать без ущерба для кого-либо: эти металлы не портятся и не разрушаются в руках владельцев. Подобный раздел вещей на неравные частные владения люди осуществили вне рамок общества и без какого-либо договора, только лишь приписав стоимость золоту и серебру и молчаливо согласившись на применение денег, потому что при государственном правлении законы регулируют право собственности и владение землей определяется действующими конституциями.
51. И таким образом, мне думается, очень легко понять, как мог труд вначале послужить источником права собственности на общие произведения природы и как трата этой собственности на наши нужды ограничила ее. Тогда не могло быть причин для споров о праве владения и никакого сомнения в величине тех владений, которые это право давало. Право и удобство шли рука об руку; ведь так как человек обладал правом на все, к чему он мог приложить свой труд, то у него не было искушения трудиться, чтобы производить больше, нежели он мог использовать. При [291] этом не оставалось места для споров относительно права владения и не было покушения на права других; всегда было видно, какой кусок человек себе отрезал, и было бесполезно, равно как и бесчестно отрезать себе слишком много или брать больше, нежели нужно.
Глава VI. Об отцовской власти
52. Могут, пожалуй, осудить как наглое критиканство, если в сочинении подобного рода подвергать осуждению те слова и названия, которые уже являются общепринятыми. И все же, возможно, не будет неуместным предложить новые термины там, где старые могут вводить людей в заблуждение, как это, вероятно, произошло с выражением отцовская власть; это выражение, по-видимому, предоставляет ту власть, которую родители имеют над своими детьми, исключительно отцу, как если бы мать не обладала ею ни в какой мере; однако же если мы обратимся к разуму или к откровению, то мы увидим, что и она имеет такое же право. Это может дать повод для вопроса: не правильнее ли было бы более точно называть его родительским правом? Ведь какие бы обязательства природа и рождение ни накладывали на детей, эти обязательства, несомненно, должны в равной мере связывать их с обеими причинами их существования. И действительно, мы видим, что положительный закон, данный богом, везде соединяет их вместе без какого-либо различия там, где он требует повиновения от детей. «Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20, 12), «Кто будет злословить отца своего или мать свою» (Лев. 20, 9), «Бойтесь каждый матери своей и отца своего» (Лев. 19, 3), «Дети, повинуйтесь своим родителям» (Еф. 6, 1) и т. д. — так говорится в Ветхом и Новом завете.
53. Если бы только приняли должным образом во внимание хотя бы это, даже не вникая глубже в этот вопрос, то уже и тогда, возможно, люди избежали бы тех грубых ошибок относительно власти родителей, которые они совершили. Эту власть можно было бы называть абсолютным господством и монархической властью, когда под названием отцовской власти она, казалось, приписывалась отцу и это не слишком резало слух. Но если бы эта предполагаемая абсолютная власть над детьми называлась родительской и тем самым обнаружилось бы, что она принадлежит [292] также и матери, это звучало бы очень странно, и самое название показывало бы абсурдность этого. Ведь если бы и мать имела в этом какую-то долю, это сослужило бы плохую службу тем людям, которые усиленно добиваются абсолютной власти и полномочий отцовства, как они это называют, и вряд ли оказало бы поддержку монархии, которую они отстаивают, когда из самого названия уже было бы ясно, что основная власть, откуда они будут производить правление исключительно одного лица, была предоставлена не одному, но двум лицам совместно. Но оставим этот спор о названиях.
54. Хотя я сказал выше, в главе второй, что все люди по природе равны, меня не следует понимать так, что это равенство распространяется на всё: возраст или добродетель могут давать людям справедливое превосходство; исключительные достоинства и заслуги могут поставить кого-либо над общим уровнем; происхождение может побудить одних, а союз или выгоды других оказывать почтение тем, кому природа, благодарность или другие поводы обязывают его оказывать. И тем не менее все это не противоречит тому равенству, в котором находятся все люди в отношении юрисдикции или господства одного над другим. Именно об этом равенстве я и говорил как об относящемся к рассматриваемому предмету, имея в виду то равное право на свою естественную свободу, которое имеет каждый человек, не будучи обязан подчиняться воле или власти какого-либо другого человека.
55. Я признаю, что дети не рождаются в этом состоянии полного равенства, хотя они рождены для него. Когда они появляются на свет и в течение некоторого времени после этого, их родители обладают своего рода господством и юрисдикцией над ними, но это только временно. Узы этого повиновения подобны тем пеленкам, в которые дети завернуты и которые их поддерживают во время их младенческой слабости; возраст и разум, по мере того как дети растут, ослабляют их, пока наконец они совершенно не спадают и не оставляют человека в его собственном полном распоряжении.
56. Адам был сотворен совершенным человеком, его тело и ум полностью владели соответственно силой и мыслью, и, таким образом, он был в состоянии с первого мгновения своего существования заботиться о своем пропитании и о своей безопасности и управлять своими действиями согласно предписаниям закона разума, которым снабдил его господь. После него мир заселяется его потомками, [293] которые все рождаются слабыми и беспомощными младенцами, без знания и понимания. Но для того чтобы возместить недостатки этого несовершенного состояния, пока рост и возраст не устранят их, Адам и Ева и после них все родители по закону природы были обязаны оберегать, кормить и воспитывать детей, которых они породили, не как свое собственное произведение, но как произведение того, кто сотворил их самих, всемогущего господа бога, за которое они ответственны перед ним.
57. Закон, который управлял Адамом, был тот же самый, который должен был управлять всем его потомством, — закон разума. Но его потомки, появившиеся на свет иным путем, не таким, как он, а посредством естественного рождения, в силу этого рождались невежественными и не могли пользоваться разумом, и, следовательно, они и не подпадали тотчас же под действие этого закона: ведь никто не может подчиняться тому закону, который ему не был объявлен. А поскольку этот закон может быть объявлен или может стать известным только при помощи разума, то о том, кто не дошел еще до пользования своим разумом, нельзя сказать, что он подпадает под действие этого закона, а дети Адама, которые в момент рождения не подпадали тотчас же под действие этого закона разума, не были и тотчас же свободны. Ведь закон в его подлинном смысле представляет собой не столько ограничение, сколько руководство для свободного и разумного существа к его собственных интересах и предписывает только то, что служит на общее благо тех, кто подчиняется этому закону. Если бы они могли быть счастливее без этого закона, то он, как бесполезная вещь, исчез бы сам по себе; и вряд ли заслуживает названия тюремной ограды то, что лишь охраняет нас от болот и пропастей. Таким образом, несмотря на всевозможные лжетолкования, целью закона является не уничтожение н не ограничение, а сохранение и расширение свободы. Ведь во всех состояниях живых существ, способных иметь законы, там, где нет закона, нет и свободы. Ведь свобода состоит в том, чтобы не испытывать ограничения и насилия со стороны других, а это не может быть осуществлено там, где нет закона. Свобода не является «свободой для каждого человека делать то, что он пожелает», как нам говорят (ибо кто мог бы быть свободным, если бы любой другой человек по своей прихоти мог тиранить его?); она представляет собою свободу человека располагать и распоряжаться как ему угодно своей личностью, своими действиями, владениями и всей своей собствен [293] ностью в рамках тех законов, которым он подчиняется, и, таким образом, не подвергаться деспотической воле другого, а свободно следовать своей воле.
58. Следовательно, власть, которую родители имеют над своими детьми, проистекает из той обязанности, которая на них возложена, — заботиться о своем потомстве во время несовершенного состояния детства. Просвещать ум и управлять действиями этих еще несведущих младенцев до тех пор, пока разум не вступит в свои права и не избавит их от этой заботы, — вот в чем нуждаются дети и что обязаны делать родители. Бог дал человеку разумение, чтобы направлять его действия, предоставил ему свободу воли и свободу действий, соответственно с этим связанные, в границах того закона, которому он должен подчиняться. Но на то время, пока он находится в таком состоянии, что не имеет собственного разумения, которое бы направляло его волю, он не должен иметь и никакой собственной воли; тот, кто за него думает, должен также и желать за него; он должен диктовать его воле и определять его действия; но когда сын достигнет того возраста, с какого его отец стал свободным человеком, тогда сын тоже становится свободным.
59. Это содержится во всех тех законах, которым подчиняется человек, будь то естественные или гражданские законы. Подчиняется ли человек закону природы? Что освободило его от этого закона? Что дало ему возможность свободно распоряжаться своей собственностью по своему желанию в рамках этого закона? Я отвечу: состояние зрелости, когда его можно считать способным познать этот закон, для того чтобы он соразмерял с ним свои действия. Когда он достигает этого состояния, то считается, что он знает, в какой мере закон должен быть его руководителем и в какой мере он может использовать свою свободу, и, таким образом, он ее приобретает; до тех пор кто-либо другой должен им руководить, тот, кто, как предполагается, знает, в какой мере закон допускает свободу. Если такое состояние разума, такой возраст, с которого человек становится ответственным за себя, сделали его свободным, они же должны сделать свободным и его сына. Подчиняется ли человек закону Англии? Что освободило его от этого закона, т. е. дало ему свободу распоряжаться своими действиями и своими владениями по своей собственной воле в рамках разрешенного этим законом? Способность узнать этот закон, что, согласно этому закону, достигается с возрастом в 21 год, а в некоторых случаях и раньше. Если это сдела [295] ло свободным отца, то должно сделать свободным также и сына. До тех пор, как мы видим, закон считает, что у сына нет воли, но что им должна руководить воля его отца или опекуна, которые должны разуметь за него. А если отец умер, не назвав того, кто вместо него выполнял бы этот долг, если он не обеспечил наставника, который должен руководить его сыном во время его несовершеннолетия, в то время, когда ему не хватает разумения, то об этом заботится закон; кто-то другой должен управлять им и решать за него до тех пор, пока он не достигнет состояния свободы и его разум не сможет взять на себя руководство его волей. Но после этого и отец, и сын свободны в равной мере, как наставник и ученик, вышедший из состояния несовершеннолетия; они оба в равной мере обязаны подчиняться тому же закону, причем у отца не остается никакой власти над жизнью, свободой или имуществом сына независимо от того, находятся ли они только в естественном состоянии и подчиняются закону природы или же подчиняются положительным законам установленного правительства.
60. Но если кто-либо в силу каких-то природных недостатков не достигает такой степени разума, когда он способен был бы знать закон и жить, сообразуясь с ним, то он никогда не сможет стать свободным человеком, ему никогда не дадут возможности проявлять свою собственную волю (потому что он не знает ее границ и не обладает разумением, которое является подлинным ее руководителем), но он продолжает находиться под руководством и под началом других все то время, пока его собственный разум не способен к исполнению этой задачи. Вот почему сумасшедшие и слабоумные никогда не бывают свободны от родительской власти. «Дети, которые еще не достигли того возраста, когда они могут пользоваться здравым рассудком, который бы ими руководил; слабоумные, которые благодаря своему природному недостатку никогда не будут пользоваться им; в-третьих, сумасшедшие, не могущие, очевидно, в данный момент пользоваться им, руководствуются разумом, который руководит другими людьми, являющимися их наставниками, пекущимися об их благе», — говорит Гукер (Церковн. полит., кн. 1, разд. 7). Все это не более, по-видимому, чем та обязанность, которую бог и природа возложили на человека, равно как и на другие существа, заботиться о своем потомстве до тех пор, пока оно не будет в состоянии само о себе заботиться, и вряд ли [296] может служить примером или доказательством монархической власти родителей.
61. Таким образом, мы рождаемся свободными, так же как мы рождаемся разумными, но это не означает, что мы тотчас же пользуемся и тем и другим; возраст, который приносит одно, приносит вместе с ним и другое. И таким образом, мы видим, как естественная свобода и повиновение родителям могут совмещаться друг с другом и быть оба основаны на одном и том же принципе. Ребенок свободен по праву своего отца, по разуму своего отца, который должен управлять им, пока у него не будет собственного разума. Свобода человека в совершеннолетнем возрасте и повиновение ребенка, который еще не достиг этого возраста, родителям настолько согласуются друг с другом и настолько различимы, что самые ослепленные из тех, кто отстаивает монархию, исходя из права отцовства, не могут не заметить это различие, самые упрямые не могут не допустить их совместимость. Если бы их доктрина была совершенно истинной, если бы подлинный наследник Адама был сейчас известен и если бы он утвердился благодаря этому праву как монарх на своем троне, облеченный всей абсолютной, неограниченной властью, о которой говорит сэр Р[оберт] Ф[илмер], и если бы он умер сейчас же после рождения своего наследника, то разве ребенок, как бы он ни был свободен и каким бы суверенным государем ни был, не находился бы в подчинении у своей матери и няньки, у наставников и гувернеров до тех пор, пока возраст и воспитание не дали бы ему разум и способность управлять собой и другими? Его жизненные потребности, здоровье и просвещение его ума потребовали бы, чтобы им руководила воля других, а не его собственная; и тем не менее разве кто-либо подумает, что это ограничение и повиновение несовместимы с той свободой или той верховной властью, на которые он имеет право, или лишает его их, или отдает его империю тем, кто правил ею во время его младенчества? То управление, под которым он находился, только лучше и быстрее подготовило его к этому. Если кто-либо спросит меня: с какого возраста мой сын может стать свободным? Я отвечу: именно с того возраста, с какого его монарх считается совершеннолетним и может управлять. «Но с какого времени, — говорит рассудительный Гукер (Церковн. полит., кн. I, разд. 6), — о человеке можно сказать, что он уже столь овладел употреблением своего разума, что может понимать те законы, с которыми он обязан сообразовывать свои действия, — это гораздо легче ощутить чувст [297] вом, чем кому-либо определить с помощью умения и знаний».
62. Сами государства обращают на это внимание и допускают, что существует время, когда люди должны начать поступать как свободные люди, и потому до этого срока не требуют от них ни присяги, ни клятвы на верность, ни какого-либо публичного признания или заявления о повиновении правительству своих стран.
63. Следовательно, свобода человека и свобода поступать по его собственной воле основываются на том, что он обладает разумом, который в состоянии научить его тому закону, по которому он должен собой управлять, и дать ему понять, в какой степени у него остается свобода его собственной воли. Предоставить ему безграничную свободу до того, как он будет иметь разум, который мог бы им руководить, — это не значит предоставить ему привилегию его природы быть свободным, но значит отбросить его в среду зверей и оставить его в таком жалком состоянии, которое столь же ниже достоинства человека, как и их состояние. Вот что вкладывает власть в руки родителей для того, чтобы они управляли своими детьми во время их несовершеннолетия. Бог поручил им заботиться о своем потомстве и наделил их соответствующей этому склонностью к нежности и заботе, дабы умерять эту власть, дабы применять ее так, как это предписывает его мудрость, на благо детей до тех пор, пока они должны находиться под этой властью.
64. Но по какой причине эта забота, которую родители обязаны проявлять к своему потомству, должна превратиться в абсолютное деспотическое господство отца? Ведь власть отца не идет дальше того, чтобы теми средствами, которые он считает наиболее подходящими, дать такую силу и здоровье их телу, энергию и прямоту их умам, какие в наибольшей степени подходят его детям, для того чтобы они приносили как можно больше пользы себе и другим, и, если это необходимо по его состоянию, заставлять их работать, когда они могут, для их собственного пропитания. Но в этой власти мать также имеет свою долю наряду с отцом.
65. Больше того, эта власть вообще принадлежит отцу не по какому-либо особому праву природы, а лишь поскольку он является опекуном своих детей; так что, когда он перестает о них заботиться, он утрачивает свою власть, которой обладал над ними до тех пор, пока заботился об их пропитании и образовании, с которыми она неразрывно [298] связана; и эта власть в такой же мере принадлежит приемному отцу подкидыша, как и настоящему отцу другого. Столь малую власть дает человеку над его потомством один лишь акт зачатия, если его заботы на этом кончаются и если этим ограничиваются те права, которые он имеет благодаря имени и авторитету отца. А что станется с этой отцовской властью в той части света, где одна женщина имеет одновременно не одного, а несколько мужей? Или в тех частях Америки, где в случаях, когда муж и жена расходятся, что бывает часто, все дети остаются у матери, следуют за ней и находятся полностью на ее иждивении и попечении? Если отец умирает в то время, когда дети еще малы, то разве они, естественно, не обязаны так же повиноваться своей матери во время их несовершеннолетия, как и своему отцу, если бы он был жив? А разве кто-либо скажет, что мать обладает законодательной властью над своими детьми? Что она может устанавливать постоянные правила, которые будут налагать на них вечные обязательства и согласно которым они должны будут решать все дела, связанные с их собственностью, и ограничивать свою свободу на всем протяжении своей жизни? Или разве она может заставлять соблюдать эти правила под угрозой смертной казни? Ведь это является прерогативой власти должностного лица, отец обладает не более чем ее тенью. Его власть над детьми только временна и не распространяется ни на их жизнь, ни на их собственность — это только помощь ввиду слабости и несовершенства их младенчества, средство, необходимое для их воспитания. И хотя отец может распоряжаться своим имуществом, как ему угодно, когда его детям не угрожает гибель от нужды, все же его власть не распространяется ни на их жизнь, ни на имущество, которое они приобрели благодаря своему трудолюбию или чьей-либо щедрости; она не распространяется также и на их свободу, когда они уже достигли совершеннолетнего возраста. Империя отца тогда кончается, и он уже не может распоряжаться свободой своего сына, как и свободой любого другого человека. И весьма далека от абсолютной или вечной юрисдикции та юрисдикция, из-под которой человек может уйти, имея разрешение божественной власти: «Оставит отца и мать и прилепится к жене своей» [Мф 19: 5].
66. Но хотя наступает время, когда ребенок становится столь же свободен от подчинения воле и велениям своего отца, как и сам отец свободен от подчинения воле кого-либо другого, и каждый из них ограничен только тем, что яв [299] ляется общим для них обоих, будь то закон природы или гражданские законы страны, все же эта свобода не освобождает сына от обязанности почитать своих родителей, которая наложена на него законом бога и природы. Бог сделал родителей орудиями своего великого замысла продолжить род человеческий и через их посредство вложил жизнь в их детей. Точно так же как он наложил на них обязанность кормить, охранять и воспитывать свое потомство, он наложил и на детей вечную обязанность почитать своих родителей; эта обязанность заключается в том, что внутреннее уважение и почтение должны выражаться посредством всевозможных внешних проявлений, и удерживает ребенка от всего, что может принести вред, оскорбить, обеспокоить или подвергнуть опасности счастье или жизнь тех, от кого он получил свою жизнь; и это обязывает его предпринимать все те действия, которые необходимы для защиты, поддержки, помощи и удобства тех, благодаря кому он появился на свет и кто дал ему возможность наслаждаться жизнью. От этой обязанности не может освободить детей никакое государство, никакая свобода. Но это весьма далеко от того, чтобы давать родителям власть повелевать своими детьми или власть создавать законы и располагать по своему усмотрению их жизнью и свободой. Одно дело — быть обязанным почитать, уважать, благодарить и помогать; а другое — требовать абсолютного повиновения и покорности. Почитание, которое дети обязаны проявлять в отношении своих родителей, должен проявлять и монарх на престоле по отношению к своей матери; и однако, это не уменьшает его авторитета и не подчиняет его ее управлению.
67. Покорность несовершеннолетнего облекает отца временной властью, которая заканчивается вместе с несовершеннолетием ребенка; а почитание, которое дети обязаны проявлять в отношении своих родителей, дает родителям постоянное право на уважение, почтение, поддержку и услужливость в большей или меньшей степени в соответствии с тем, были ли уход со стороны отца, издержки и доброта при воспитании ребенка большими или меньшими. Это не прекращается с окончанием несовершеннолетия, а остается в силе во все периоды человеческой жизни при всех условиях. Отсутствие разграничения между этими двумя видами власти, а именно тем, который имеет отец в виде права на руководство детьми во время их несовершеннолетия, и правом на почитание с их стороны во время всей его жизни, пожалуй, вызвало большую часть [300] ошибок в этом вопросе. Ведь строго говоря, первое из этих прав является скорее привилегией детей и обязанностью родителей, а не прерогативой отцовской власти. Питание и образование детей являются настолько обязательными для родителей ради блага их детей, что ничто не может освободить их от обязанности заботиться об этом. И хотя власть приказывать и наказывать неразрывно связана с этим, все же бог заложил в основы человеческой природы такую нежность к своему потомству, что вряд ли следует опасаться, что родители будут слишком ревностно использовать свою власть; строгостью злоупотребляют редко, так как сильная естественная склонность влечет в противоположную сторону. И вот почему всемогущий господь, желая подчеркнуть мягкость своего обращения с израильтянами, говорил им, что, наказывая, «он учит их, как человек учит сына своего» (Втор. 8, 5), т. е. с нежностью и любовью, и обращался с ними не более сурово, чем это было совершенно для них необходимо, а если бы он им попустительствовал, то это уже отнюдь не было бы добротой. Вот та власть, которой детям приказано повиноваться, чтобы старания и заботы их родителей не возрастали или не оставались невознагражденными.
68. С другой стороны, почитание и поддержка в старости — все то, чего требует благодарность взамен тех благ, которые получены через родителей и от них, является неотъемлемой обязанностью ребенка и подлинной привилегией родителей. Они предназначены на пользу родителей точно так же, как другое — на пользу ребенка; хотя воспитание, эта обязанность родителей, по-видимому, больше всего требует власти, так как невежество и слабость младенческого возраста нуждаются в ограничении и исправлении, что является зримым проявлением правления и своего рода владычеством. А та обязанность, которая определяется словом почитание, требует меньше повиновения, хотя это обязательство в большей степени распространяется на выросших, чем на младших, детей. Ведь кто может подумать, что заповедь «Дети, повинуйтесь своим родителям» требует от человека, имеющего собственных детей, такой же покорности своему отцу, какой эта заповедь требует от его малолетних детей в отношении его самого, и что, исходя из этого положения, он был бы обязан выполнять все повеления своего отца, если бы тот из упоения властью проявлял такое неразумие, что обходился бы с ним все еще как с мальчиком?
[301] 69. Следовательно, первая часть отцовской власти или скорее обязанности, которая состоит в воспитании детей, принадлежит отцу таким образом, что она заканчивается в определенный период. Когда дело воспитания выполнено, она исчезает сама по себе, а может быть отчуждена и раньше: ведь человек может передать дело воспитания своего сына в другие руки; а тот, кто сделал своего сына учеником другого человека, на это время передал ему большую часть того повиновения, которым ребенок обязан ему самому и своей матери. Что же касается другой части — обязанности почитать родителей, то это право родители тем не менее сохраняют за собой целиком; ничто не может его отменить; оно настолько неотделимо от них обоих, что власть отца не может лишить мать этого права, и ни один человек не может освободить своего сына от обязанности почитать ту, которая родила его. Но обе эти власти весьма далеки от той власти, которая создает законы и заставляет им повиноваться с помощью таких наказаний, которые могут затрагивать имущество, свободу, члены тела и жизнь. Право повелевать заканчивается вместе с несовершеннолетним возрастом; и хотя после этого почитание и уважение, поддержка и защита и все то, к чему человека может обязывать благодарность ради самых высоких благодеяний, на которые он способен по своей природе, всегда являются обязанностью сына по отношению к своим родителям, все это, однако, не влагает скипетра в руку отца, не дает ему верховной власти повелевать. Он не может распоряжаться собственностью своего сына или его действиями и не имеет никакого права на то, чтобы его воля во всем диктовала воле его сына; однако во многих случаях его сыну, возможно, подобает, если это не будет слишком уж неудобно для него самого и его семьи, проявлять почтение к воле отца.
70. Человек может быть обязан почитать и уважать старого или мудрого человека; защищать своего ребенка или друга; оказывать поддержку и помощь находящимся в беде и проявлять благодарность благодетелю в такой степени, что всего, чем он располагает, всего, что он в силах сделать, будет недостаточно, чтобы погасить свой долг. Но все это не дает никому ни власти, ни права создавать законы для того, кто ему обязан. И совершенно ясно, что все это следует не из самого имени отца; не только потому, что, как уже говорилось, те же самые права имеет и мать, но потому, что эти обязательства в отношении родителей и та степень, в какой требуется их выполнение от детей, [302] могут меняться в зависимости от различной заботы и доброты, хлопот и расходов, которых часто затрачивается на одного ребенка больше, чем на другого.
71. Это показывает причину, по которой родители в обществах, где они сами являются подданными, сохраняют власть над своими детьми и имеют такое же право на повиновение с их стороны, как и те, что находятся в естественном состоянии. Это вряд ли было бы возможно, если бы вся политическая власть носила отцовский характер и в действительности они бы представляли одно и то же: ведь если бы вся отцовская власть находилась в руках государя, то тогда подданный, естественно, не мог располагать никакой ее долей. Но эти две власти, политическая и отцовская, столь совершенно различны и раздельны, покоятся на столь различных основаниях и существуют для столь различных целей, что каждый подданный, если он является отцом, обладает такой же отеческой властью над своими детьми, как государь над своими. И каждый государь, имеющий родителей, обязан проявлять в отношении их такое же сыновнее почтение и повиновение, какое самый последний из его подданных проявляет в отношении своих родителей; и поэтому этот подданный не может обладать какой-либо частью или степенью такого рода власти, какою государь или должностное лицо обладают над своими подданными.
72. Хотя обязанность родителей воспитывать своих детей и обязанность детей почитать своих родителей содержат всю власть, с одной стороны, и повиновение — с другой, которые вытекают из этого отношения, все же существует обычно у отца и другая власть, благодаря которой он имеет возможность влиять на повиновение своих детей; хотя он имеет ее наравне с другими людьми, все же случаи ее проявления почти постоянно предоставляются отцам в их собственных семьях, а примеры другого ее применения редки и менее заметны, вот почему она и считается частью отцовской юрисдикции. Это власть, которой обычно располагают люди, передавать свое имущество тем, кто им больше всего по душе.
Дети обычно рассчитывают унаследовать имущество отца в определенных пропорциях в согласии с законом и обычаями каждой страны; все же, как правило, во власти отца — наделить этим имуществом более скупо или более щедро сообразно с тем, насколько поведение того или иного ребенка соответствовало его желанию и настроению.
[303] 73. Это оказывает немалое влияние на повиновение детей; и так как всегда с правом пользоваться землей связывалось повиновение правительству данной страны, частью которой является эта земля, то обычно предполагалось, что отец мог обязать свое потомство повиноваться тому правительству, подданным которого он сам являлся, и что заключенный им договор связывал и их, тогда как это есть лишь необходимое условие, с которым связано владение землей и унаследование владений, находящихся под властью этого правительства, и может распространяться только на тех, кто принимает эти владения на этом условии, и, следовательно, это не является естественным долгом или обязательством, а есть добровольное повиновение. Ведь дети каждого человека, будучи по своей природе столь же свободны, как и он сам или как был любой из его предков, могут, пока они находятся в этом состоянии свободы, избрать то общество, к которому они захотят присоединиться, то государство, подданными которого они захотят стать. Но если они хотят получить наследие своих предков, то они должны взять его на тех же условиях, на которых им владели их предки, и подчиниться всем обязательствам, которые сопутствуют такому владению.
Посредством этой власти отцы обязывают своих детей повиноваться даже и тогда, когда те вышли из несовершеннолетия, и обычно подчиняют их также той или иной политической власти. Однако это происходит не благодаря особому праву отцовства, а только благодаря награде, находящейся у них в руках, посредством которой они могут принуждать к покорности и вознаграждать за нее; и они располагают не большей властью, чем та, которую француз может иметь над англичанином, если бы этот француз пообещал оставить тому поместье, что, несомненно, в значительной степени обязывало бы англичанина к повиновению; а если это поместье будет ему оставлено и он захочет им воспользоваться, то ему, несомненно, придется принять его на тех условиях, которые связаны с владением землей в той стране, где она находится, будь то Франция или Англия.
74. В заключение следует сказать, что хотя отцовская власть повелевать распространяется только на время несовершеннолетия детей и может проявляться только в той степени, в какой это необходимо для дисциплинирования этого возраста и для управления им; что хотя почтение и уважение и все то, что латиняне называли почтительностью, которую дети неизменно должны проявлять по от [304] ношению к своим родителям на протяжении всей их жизни и во всех состояниях, поддерживая и оберегая их так, как это положено, не дают отцу права управлять, т. е. создавать законы и устанавливать наказания для своих детей; хотя в силу этого он не имел власти распоряжаться собственностью или действиями своего сына, однако нетрудно понять, как в первые века существовании мира и в особенности в тех местах, где малочисленность населения дает возможность семьям расселяться в никому не принадлежащих областях и им есть куда переселиться и обосноваться в еще не занятых местностях, отцу семейства легко было стать его государем* [* Следовательно, мнение, высказанное одним архифилософом, не является невероятным: «Главное лицо в каждом хозяйстве всегда было, так сказать, королем; так что когда известное число хозяйств объединялось в гражданские общества, то короли были своего рода первыми правителями среди них, что также, по-видимому, является причиной и того, почему продолжали носить название отцов те, кто из отцов стали владыками; точно так же, вероятно, возник и старинный обычай правителей поступать так, как Мельхиседек, и, будучи царями, выполнить обязанности священника, которые сначала выполнялись отцами. Как бы то ни было, это не единственный вид порядка, который возник в мире. Определенные неудобства послужили причиной для создания ряда других; так что, короче говоря, всякий общественный порядок, какого бы рода он ни был, по-видимому, возник в результате намеренного совещания, собеседования и соглашения между людьми, считавшими это удобным и подобающим; не является невозможностью то, что в природе как таковой человек мог бы жить без какого-либо общественного порядка» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10)]. Он был правителем, начиная с младенчества своих детей; и так как без какого-либо правления им было бы трудно жить вместе, то вероятнее всего, что благодаря выраженному или молчаливому согласию детей, когда они выросли, это правление было предоставлено отцу и, собственно говоря, оно продолжалось без какого-либо изменения. Ведь действительно для этого не требовалось ничего более, как позволить отцу осуществлять одному в его семье ту исполнительную власть закона природы, которой естественно располагает каждый свободный человек, и благодаря этому позволению они передали ему монархическую власть на то время, пока они в ней пребывали. Но это произошло не в силу какого-то отцовского права, а только по согласию его детей, что очевидно из следующего: никто не сомневается, что если бы какой-либо чужеземец, случайно или по делу попавший в его семью, убил кого-либо из его детей или совершил какое-либо другое преступление, то отец мог бы приговорить его к смерти и казнить его или наказать каким-либо иным [305] образом точно так же, как и любого из своих детей. Этого он не мог бы сделать в силу какой-то отцовской власти над тем, кто не являлся его ребенком, но только в силу той исполнительной власти закона природы, на которую он как человек имел право; и только он один мог наказать его в своем семействе, где его дети из уважения к нему отказались осуществлять такую власть, уступив ее достоинству и авторитету, и по их желанию она осталась именно у него, а не у кого-либо другого из всей остальной семьи.
75. Таким образом, для детей было легко и почти естественно посредством молчаливого согласия, которого трудно было избежать, уступить власть и правление отцу. С самого детства они привыкли подчиняться его руководству и обращаться к нему со своими маленькими разногласиями; а когда они стали взрослыми, кто больше подходил для того, чтобы управлять ими? Их небольшое имущество, при том что алчность у них была еще меньше, редко служило поводом для серьезных споров; а если они и возникали, то кто бы мог быть для них более подходящим судьей, чем тот, чьими заботами каждый из них был вскормлен и воспитан и кто относился с нежностью к ним всем? Нет ничего удивительного, что они не делали различия между несовершеннолетием и совершеннолетием, не ожидали с нетерпением двадцати одного года или какого-либо другого возраста, который дал бы им возможность свободно распоряжаться собой и своим имуществом, поскольку у них не могло возникнуть желание закончить свое ученичество. Правление, которому они подчинялись в этот период, продолжалось и в дальнейшем, скорее служило им защитой, чем ограничивало их свободу, и они нигде не могли найти больших гарантий для своего спокойствия, свободы и имущества, чем при правлении отца.
76. Так естественные отцы семейств путем неощутимого изменения делались также и политическими монархами; а так как им случалось долго прожить и оставить способных и достойных наследников в течение ряда поколений или иным образом, то они заложили основы наследственной или выборной королевской власти в соответствии с различными конституциями и обычаями, в зависимости от того, как судьба, умысел или случай это определяли. Но если государи носят свое звание по праву своих отцов и это является достаточным доказательством естественного права отцов на политическую власть, поскольку они обычно были теми, в чьих руках мы находим de facto бразды правления, то повторяю, что, если этот аргумент правилен, он [306] в такой же степени доказывает, что все государи, и даже только государи, должны быть и священниками, так как несомненно, что вначале «отец семейства был священником точно так же, как он был правителем в своем хозяйстве».
Глава VII. О политическом или гражданском обществе
77. Бог создал человека таким существом, что, по господнему решению, нехорошо было быть ему одиноким, и, положив необходимость, удобства и склонности могучими побудительными силами, которым должен был подчиниться человек, он заставил его искать общества, равно как и снабдил его разумом и языком, дабы тот мог поддерживать его и наслаждаться им. Первое общество состояло из мужа и жены, что дало начало обществу, состоящему из родителей и детей; к этому с течением времени добавилось общество из хозяина и слуги. И хотя все они могли, как это обычно и происходило, сочетаться и образовывать одну общую семью, в которой хозяин или хозяйка обладали в некотором роде правом правления, свойственным семье, однако ни одно из этих обществ и все они вместе не являлись политическим обществом, как мы увидим, если рассмотрим различные цели, связи и границы каждого из них.
78. Брачное сообщество образуется посредством добровольного соглашения между мужчиной и женщиной; и хотя оно преимущественно сводится к соединению и к праву каждого супруга на тело другого, поскольку это необходимо для основной цели — произведения потомства, оно вместе с тем влечет за собой взаимную поддержку и помощь, а также общность интересов, поскольку им необходимо не только объединить свою заботу и привязанность, но также обеспечить общее потомство, которое имеет право на пропитание и поддержку с их стороны до тех пор, пока не будет в состоянии само о себе заботиться.
79. Ведь целью союза между мужчиной и женщиной является не просто порождение потомства, но продолжение рода; этот союз между мужчиной и женщиной должен продолжаться даже и после рождения потомства столь долго, сколь это необходимо для пропитания и поддержки детей, которых обязаны содержать те, кто их произвел, до того возраста, пока дети не будут в состоянии обходиться без посторонней помощи и сами о себе заботиться. Мы ви [307] дим, что этому закону, который установил бесконечно мудрый творец для творений рук своих, неизменно повинуются низшие существа. У тех живородящих существ, которые питаются травой, союз между самцом и самкой длится не дольше, чем сам половой акт, потому что сосцы самки в состоянии прокормить детеныша до того момента, пока он сможет питаться травой, и самец только осуществляет зачатие, но не заботится ни о самке, ни о детеныше, для поддержания которых он ничего не в состоянии дать. Но у хищных животных союз длится дольше, так как самка не в состоянии полностью содержать себя и питать свое многочисленное потомство исключительно своей добычей; это более трудный, равно как и более опасный, способ существования, чем питание травой; поддержка самца необходима для содержания их общей семьи, члены которой не могут сами содержать себя до того, как они будут в состоянии сами ходить на добычу, следовательно, здесь необходима общая забота самца и самки. То же самое наблюдается и у всех птиц (за исключением некоторых домашних птиц, где изобилие пищи дает возможность петуху не кормить потомство и не заботиться о нем), птенцы которых нуждаются в пище, находясь в гнезде, и самец и самка продолжают находиться в союзе до тех пор, пока птенцы не научатся летать и не смогут сами заботиться о своем пропитании.
80. И в этом, мне думается, заключается основная, если не единственная, причина того, что у людей самец и самка связаны более длительным союзом, чем у других существ, а именно потому, что самка способна зачать, и de facto снова обычно бывает беременна, и приносит новое потомство задолго до того, как предыдущий ребенок перестает нуждаться в поддержке и помощи своих родителей и будет в состоянии сам о себе заботиться; он все еще нуждается в помощи, которую ему обязаны оказывать его родители. Вследствие этого отец, который обязан заботиться о тех, кого он зачал, должен находиться в брачном союзе с той же женщиной дольше, чем другие существа, потомство которых может само заботиться о себе раньше, чем снова наступает период деторождения, и брачная связь которых распадается сама собой и они свободны до тех пор, пока Гименей в свое обычное ежегодное время снова не призовет их выбирать новых супругов и подруг. При этом нельзя не восхищаться мудростью великого творца, который наделил человека даром предвидения и способностью запасать на будущее, равно как и обеспечивать настоящие [308] нужды, и сделал необходимым, чтобы общество мужчины и женщины было более длительным, чем самца и самки у других существ; так, чтобы их трудолюбие поощрялось и чтобы их интересы были лучше соединены на предмет обеспечения всем необходимым и создания запасов для их общего потомства, которому сильно повредили бы беспорядочные связи или легкое и частое расторжение брачного союза.
81. Но хотя человечество связано этими обязательствами, которые делают брачные узы более прочными и более длительными у человека, чем у других видов животных, все же имеется повод для вопроса: почему это соглашение, при котором обеспечено производство и воспитание потомства и наследование, нельзя сделать ограниченным — либо в зависимости от согласия, либо на определенное время, либо при определенных условиях, подобно любым другим добровольным соглашениям? Ведь в самой природе вещи, равно как и для ее цели, нет необходимости, чтобы это было всегда пожизненным. Я имею в виду тех, кто не подвержен ограничениям какого-либо положительного закона, предписывающего, чтобы все подобные договоры были вечными.
82. Но так как муж и жена, хотя они и имеют одну общую заботу, все же думают по-разному, то они неизбежно иногда будут проявлять и различную волю; поскольку необходимо, чтобы окончательное решение, т. е. руководство, было возложено на кого-либо, то оно, естественно, падает на долю мужчины как более способного и более сильного. Но это распространяется только на то, что относится к их общим интересам и собственности, и оставляет жене полное и свободное владение тем, что по договору составляет ее особое право, и дает мужу не большую власть над ее жизнью, чем она имеет над его жизнью. Власть мужа настолько далека от власти абсолютного монарха, что жена во многих случаях свободна разойтись с ним, когда естественное право или их договор допускают это, независимо от того, был ли этот договор заключен ими самими в естественном состоянии или по обычаям и законам страны, в которой они живут; и дети в случае такого раздельного жительства отходят к отцу или матери в соответствии с тем, что предписывает договор.
83. Так как все цели брака могут быть осуществлены при политическом правлении, равно как и в естественном состоянии, то гражданский правитель не умаляет ни права, ни власти каждого из тех, кто, естественно, необходим [309] для этих целей, viz. для произведения потомства и для взаимной поддержки и помощи, пока они находятся вместе, но только разрешает любой спор, который может возникнуть между мужем и женой по этому поводу. Если бы дело обстояло иначе и абсолютное главенство и власть над жизнью и смертью, естественно, принадлежали мужу и были бы необходимы для общества мужа и жены, то не могло бы быть брака ни в одной из тех стран, где мужу не дана такая абсолютная власть. Но цели брака не требуют, чтобы муж был облечен такой властью, и условие брачного сообщества не дает ему ее, поскольку в ней в данной ситуации нет никакой необходимости. Брачное сообщество может существовать и достигать своих целей без этого; ведь общность имущества и право распоряжаться им, взаимная помощь и поддержка и все прочее, относящееся к брачному сообществу, могут изменяться и регулироваться тем договором, который соединяет мужчину а женщину в это сообщество в той мере, в какой это связано с произведением на свет потомства и воспитанием детей до тех пор, пока они не станут самостоятельными; ничто не является необходимым ни для какого общества, если это не необходимо для тех целей, ради которых данное общество создано.
84. Сообщество между родителями и детьми и различные права и власть, соответственно принадлежащие им, я настолько подробно рассмотрел в предыдущей главе, что мне нет необходимости говорить что-либо об этом здесь. И мне думается, совершенно очевидно, что это значительно отличается от политического общества.
85. Хозяин и слуга — эти названия так же стары, как и история, но они относятся к людям, находящимся в совершенно различных условиях; так, например, свободный человек делает себя слугой другого, продав ему на некоторое время те услуги, которые он обязуется выполнять взамен той платы, которую он получит; и хотя это обычно связано с тем, что он входит в семью своего хозяина и подчиняется установленному там порядку, но тем не менее это дает хозяину только временную власть над ним, причем не превышающую то, что содержится в заключенном между ними договоре. Но существует другой род слуг, которых мы называем особым именем рабы: это пленные, взятые в справедливой войне, и по естественному праву они находятся в абсолютном подчинении и под деспотической властью своих хозяев. Эти люди, как я сказал, утратили право на свою жизнь и вместе с этим свою свободу и потеряли свое имущество; и, находясь в состоянии рабства, они [310] не могут иметь какой-либо собственности; следовательно, в этом состоянии их нельзя считать какой-либо частью гражданского общества, главной целью которого является сохранение собственности.
86. Теперь мы рассмотрим главу семьи со всеми этими подчиненными и родней — женой, детьми, слугами и рабами, которые объединены под домашним правлением в семье; все это, как бы оно ни было похоже по своему порядку, обязанностям и числу на небольшое государство, все же весьма далеко от него как по устройству, власти, так и по цели; или же, если что рассматривать как монархию, a pater familias [отец семейства] — как абсолютного монарха, то подобная абсолютная монархия будет обладать очень неустойчивой и кратковременной властью, поскольку уже ясно из вышеизложенного, что глава семьи обладает весьма определенной и по-разному ограниченной как в отношении времени, так и в отношении размера властью над теми несколькими лицами, которые составляют эту семью; ведь если не считать рабов (а семья является в одинаковой степени семьей, и его власть как pater familias так же велика независимо от того, имеются ли в этой семье рабы или нет), то он не обладает законодательной властью над жизнью и смертью никого из них и вообще не имеет никакой власти, которой бы не могла обладать в семье и хозяйка. И совершенно несомненно, что не может иметь никакой абсолютной власти над всей семьей тот, кто обладает лишь весьма ограниченной властью над каждой отдельной личностью, входящей в эту семью. Но насколько семья или какое-либо подобное общество людей отличаются от того, что является собственно политическим обществом, мы лучше всего увидим, рассмотрев, из чего состоит само политическое общество.
87. Человек рождается, как было уже доказано, имея право на полную свободу и неограниченное пользование всеми правами и привилегиями естественного закона в такой же мере, как всякий другой человек или любые другие люди в мире, и он по природе обладает властью не только охранять свою собственность, т. е. свою жизнь, свободу и имущество, от повреждений и нападений со стороны других людей, но также судить и наказывать за нарушение этого закона других, как того заслуживает, по его убеждению, данное преступление, даже смертью, в тех случаях, когда гнусность поступка, по его мнению, этого требует. Но поскольку ни одно политическое общество не может ни быть, ни существовать, не обладая само правом охранять собственность и в этих целях наказывать преступления [311] всех членов этого общества, то политическое общество налицо там, и только там, где каждый из его членов отказался от этой естественной власти, передав ее в руки общества во всех случаях, которые не препятствуют ему обращаться за защитой к закону, установленному этим обществом. И таким образом, всякий частный суд каждого отдельного члена исключается, и общество становится третейским судьей, устанавливая постоянные правила, беспристрастные и одни и те же для всех сторон, и с помощью людей, получивших от общества полномочия проводить в жизнь эти правила, разрешает все разногласия, которые могут возникнуть между любыми членами этого общества в отношении всякого правового вопроса, равно как и наказывает те преступления, которые любой член общества совершил по отношению к обществу, такими карами, которые установлены законом. Вследствие этого легко различить, кто находится и кто не находится вместе в политическом обществе. Те, кто объединены в одно целое и имеют общий установленный закон и судебное учреждение, куда можно обращаться и которое наделено властью разрешать споры между ними и наказывать преступников, находятся в гражданском обществе; но те, кто не имеют такого общего судилища, я имею в виду — на земле, все еще находятся в естественном состоянии, при котором каждый, когда нет никого другого, сам является судьей и палачом, а это, как я уже показал, и есть совершенное естественное состояние.
88. Таким образом, государство получает власть устанавливать, какое наказание должно полагаться за различные нарушения, совершенные членами этого общества, и какие нарушения того заслуживают (это есть законодательная власть), так же как оно обладает властью наказывать за ущерб, нанесенный любому из его членов любым из тех, кто не входит в это общество (это власть решать вопросы войны и мира), и все это для сохранения собственности всех членов общества, насколько это возможно.
Но хотя каждый человек, вступивший в гражданское общество и ставший членом какого-либо государства, тем самым отказался от своей власти наказывать преступления против закона природы и осуществлять свое собственное частное правосудие, все же вместе с правом судить за преступления, которое он передал законодательной власти во всех случаях, когда он может обратиться к суду, он дал право государству употреблять его силу для исполнения приговоров государства в тех случаях, когда его к этому призовут: ведь эти приговоры являются его собственными, [312] так как они вынесены им самим или его представителями. И здесь мы имеем первоначало законодательной и исполнительной власти гражданского общества, которой надлежит определять на основании постоянных законов, в какой мере должны наказываться преступления, когда они совершены внутри государства, а также определять с помощью решений, принимаемых в каждом отдельном случае на основании обстоятельств данного дела, в какой мере должен возмещаться ущерб, нанесенный извне, и в обоих этих случаях употреблять силу всех членов общества, когда это потребуется.
89. Следовательно, когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, что каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда, существует политическое, или гражданское, общество. И это происходит, когда какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии, вступает в общество, чтобы составить один народ, одно политическое тело под властью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним и принимается в какое-либо уже существующее государство. Тем самым он уполномочивает общество или, что все равно, его законодательную власть создавать для него законы, каких будет требовать общественное благо; он должен способствовать исполнению этих законов (как своим собственным установлениям). И это переносит людей из естественного состояния в государство, поскольку на земле появляется судья, имеющий власть разрешать все споры и возмещать любой ущерб, который может быть нанесен любому члену государства; этим судьей является законодательная власть или назначенное ею должностное лицо. В тех же случаях, когда есть какое-то число людей, хотя бы и связанных между собой, но не имеющих такой принимающей решения власти, к которой они могли бы обратиться, они все еще находятся в естественном состоянии.
90. Отсюда очевидно, что абсолютная монархия, которую некоторые считают единственной формой правления в мире, на самом деле несовместима с гражданским обществом и, следовательно, не может вообще быть формой гражданского правления. Ведь цель гражданского общества состоит в том, чтобы избегать и возмещать те неудобства естественного состояния, которые неизбежно возникают из того, что каждый человек является судьей в своем собственном деле. Это достигается путем установления известного [313] органа власти, куда каждый член этого общества может обратиться, понеся какой-либо ущерб или в случае любого возникшего спора, и этому органу должен повиноваться каждый член этого общества* [* «Общественная власть всего общества выше любого человека, входящего в это общество; и основное назначение этой власти в том, чтобы давать законы всем, кто ей подчиняется, и этим законам в таких случаях мы должны повиноваться, если только нет причин, из которых по необходимости проистекало бы, что закон разума или бога утверждает обратное» (Гукер. Церковн. полит., кн. I. разд. 16)]. В тех случаях, когда существуют какие-либо лица, не имеющие такого органа, к которому они могли бы обратиться для разрешения каких-либо разногласий между ними, эти лица все еще находятся в естественном состоянии. И в таком состоянии находится каждый абсолютный государь в отношении тех, кто ему подвластен
91. Ведь предполагается, что он, и только он, обладает всей, и законодательной и исполнительной, властью и нельзя найти никакого судьи, не к кому обратиться, кто бы мог справедливо и беспристрастно решить дело, обладая необходимыми полномочиями, и от чьего решения можно было бы ожидать помощи и возмещения любого ущерба или неудобства, которые можно претерпеть от самого государя или по его приказу. И таким образом, подобный человек, как бы он ни назывался — царь, или владетельный сеньор, или еще как-нибудь, в такой же степени находится в естественном состоянии по отношению ко всем, кто ему подвластен, как и по отношению ко всему остальному человечеству. Ведь во всех случаях, когда имеются два каких-либо человека, у которых нет ни постоянного правила, ни общего судьи, к которому они могли бы обратиться на земле для решения их споров о том, кто из них прав, они все еще находятся в естественном состоянии* [«Для того чтобы устранить все такие взаимные жалобы, оскорбления и обиды», т. е. то, что сопутствует людям в естественном состоянии, «не было никакого иного способа, кроме как достичь согласия и соглашения среди самих себя путем установления своего рода общественного правления и подчинения ему, с тем чтобы те, кого они наделили властью управлять и выносить решения, обеспечивали остальным мир, покой и счастливое состояние. Людям всегда было известно, что в тех случаях, когда проявлялась сила и наносился им ущерб, они сами могли быть своими защитниками; они знали, что как бы люди не стремились к своей выгоде, но если это делалось в ущерб другим, то этого не должно было терпеть, и все люди всеми допустимыми средствами должны этому препятствовать. Наконец, они знали, что ни один человек, находящийся в здравом уме, не может взять на себя определение своего собственного права и согласно своему собственному решению отстаивать это право, поскольку каждый человек в отношении себя самого, равно как и в отношении тех, кого он любит, пристрастен; и следовательно, ссоры и неприятности будут бесконечны, если только люди не дадут своего общего согласия на то, чтобы все определялось теми, кого они сообща выделят и без чьего согласия не может быть основания для того, чтобы один человек решил стать господином или судьей другого» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10)] и испытывают все неудобства этого с одной лишь прискор [314] бной разницей для подданного или, скорее, раба абсолютного повелителя; в обычном естественном состоянии он волен сам судить о своем праве и поддерживать его, насколько в его силах; теперь же, когда его собственностью распоряжается воля и каприз его монарха, ему не только некуда обратиться, как это следует делать тем, кто живет в обществе, но он лишен свободы судить о своем праве или защищать его, как если бы он стоял на ступень ниже обычного состояния разумных существ; и, таким образом, он подвержен всем бедствиям и неудобствам, которых может опасаться человек от того, кто, находясь в ничем не ограниченном естественном состоянии, еще и развращен лестью и облечен властью.
92. Тому же, кто полагает, что абсолютная власть очищает кровь людей и исправляет низость человеческой натуры, достаточно хотя бы прочитать историю нашей или любой другой эпохи, чтобы убедиться в противном. Тот, кто был бы наглым и несправедливым в лесах Америки, вряд ли стал бы лучше на троне, где, вероятно, привлекут науку и религию, чтобы оправдать все, что он будет творить в отношении своих подданных, а меч заставит сразу же замолчать тех, кто осмелится сомневаться в этом. К чему приводит защита абсолютной монархии, каких отцов отечеств она делает из государей и до какой степени счастья и безопасности она доводит гражданское общество, в котором достиг совершенства этот род правления, легко увидит тот, кто ознакомится с недавним рассказом о Цейлоне.
93. В самом деле, в абсолютных монархиях, так же как и при других формах правления, существующих в мире, подданные имеют право обращаться к закону, а судьи вольны разрешать любые споры и сдерживать любое насилие, которое может проявиться среди самих подданных, между одним и другим. Подобное положение всякий считает необходимым и верит, что тот, кто решит уничтожить его, будет отъявленным врагом общества и человечества. [315] Но происходит ли это от подлинной любви к человечеству и к обществу и от того милосердия, которое мы должны проявлять друг к другу, — в этом можно сомневаться; ведь это не больше, чем то, что каждый человек, который любит свое могущество, выгоду или величие, может и, естественно, должен делать, — не давать вредить друг другу или уничтожать друг друга тем животным, которые трудятся и надрываются только ради его удовольствия и выгоды; и поэтому о них заботятся не из любви, которую хозяин якобы к ним питает, но из любви хозяина к самому себе и ради той выгоды, которую они ему приносят. Ведь стоит только спросить, какая защита, какое ограждение существует в подобном состоянии против насилия и угнетения со стороны этого абсолютного владыки? Самый вопрос уже вряд ли является допустимым. Они готовы ответить вам, что за самую просьбу о безопасности полагается смерть. Между подданным и подданным, согласятся они, должны существовать правила, законы и судьи ради их взаимного мира и безопасности. Но во всем, что касается правителя, он должен быть абсолютным, и он выше всех подобных обстоятельств; поскольку он обладает властью причинять больший ущерб и творить больше зла, то, когда он это делает, это справедливо. Если вы спросите, как можно защититься от вреда или ущерба с той стороны, откуда творит их эта самая сильная десница, то это сочтут голосом крамолы и мятежа. Как будто бы люди, оставив естественное состояние и вступив в общество, согласились, что все, кроме одного, должны удерживаться законами, но что он, этот один, должен по-прежнему сохранять всю свободу естественного состояния, увеличившуюся вместе с властью и превратившуюся в распущенность вследствие безнаказанности. Это все равно что думать, будто люди настолько глупы, что они стараются избежать вреда от хорьков или лис, но довольны и даже считают себя в безопасности, когда их пожирают львы.
94. Но что бы ни болтали льстецы с целью отвлечь умы людей, это не мешает людям чувствовать; и когда они замечают, что какой-либо человек, независимо от того, какое положение он занимает, вышел из границ гражданского общества, в котором они живут, и что им не к кому обратиться на земле за защитой от того зла, которое он им может причинить, то они начинают думать, что сами находятся в естественном состоянии по отношению к тому человеку, который, как они считают, находится в таком состоянии, и стараются так скоро, как только могут, обрести [316] ту безопасность и защиту в гражданском обществе, для которых оно было первоначально учреждено и ради которых только они в него вступили. И поэтому, хотя, возможно, вначале (как будет показано более подробно в дальнейшей части этого рассуждения) какой-то один добродетельный и превосходный человек, выделившийся среди остальных, из уважения к его хорошим качествам и добродетелям как к своего рода естественному авторитету был отмечен тем, что бразды правления, равно как и вынесение решений по их спорам, по молчаливому согласию перешли в его руки без каких-либо иных мер предосторожности, кроме уверенности в его справедливости и мудрости, все же когда время, придающее авторитет и (как пытаются убеждать нас некоторые) святость обычаям, которые возникли благодаря небрежности и простодушной непредусмотрительности первых веков, породило преемников иного склада, то народ нашел, что его собственность не находится в безопасности при том правлении, какое было (в то время как правление не имеет иной цели, кроме сохранения собственности), и что он не мог пользоваться ни безопасностью, ни покоем, ни считать, что живет в гражданском обществе, до тех пор пока законодательная власть не была отдана в руки коллективного органа, который можно называть сенатом, парламентом или как угодно* [* «Первоначально, когда однажды был одобрен определенный порядок, то возможно, что тогда ничего больше не думали относительно образа правления, но все предоставлялось мудрости и благоразумию тех, которые должны были править, пока люди на опыте не обнаружили, что это очень неудобно для всех заинтересованных сторон, так что вещь, которую они изобрели в качестве лекарства, на самом деле только увеличила ту язву, которую должна была излечить. Они увидели, что причиной всех человеческих несчастий стало то, что люди жили по воле одного человека. Это принудило их создать законы, благодаря которым все люди могли заранее видеть свои обязанности и знать, какие наказания влечет за собой их нарушение» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10)]. Благодаря этому каждое отдельное лицо стало наравне с другими, самыми ничтожными людьми подданным тех законов, которые оно само как член законодательного органа установило; точно так же никто не мог по своей собственной власти избегнуть силы закона после того, как этот закон был создан. Не мог никто также под предлогом превосходства просить об исключении для собственных нарушений или для нарушений, совершенных кем-либо из его близких! Но и для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключения из законов [317] этого общества* [* «Гражданский закон, являющийся актом государства в целом, тем самым имеет власть над каждой из отдельных частей этого государства» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10)]. Ведь если какой-либо человек может делать все, что ему заблагорассудится, и на земле не будет места, куда можно было бы обратиться для исправления причиненного им зла или для защиты от него, то, спрашиваю я, не будет ли такой человек все еще полностью в естественном состоянии; но тем самым он не может быть ни частью, ни членом этого гражданского общества, если только кто-либо не станет утверждать, что естественное состояние и гражданское общество — это одно и то же; но до сих пор я еще не нашел ни одного столь страстного приверженца анархии, который бы стал на этом настаивать.
Глава VIII. О возникновении политических обществ
95. Поскольку люди являются, как уже говорилось, по природе свободными, равными и независимыми, то никто не может быть выведен из этого состояния и подчинен политической власти другого без своего собственного согласия. Единственный путь, посредством которого кто-либо отказывается от своей естественной свободы и надевает на себя узы гражданского общества, — это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества. Это может сделать любое число людей, поскольку здесь нет ущерба для свободы остальных людей, которые, как и прежде, остаются в естественном состоянии свободы. Когда какое-либо число людей таким образом согласилось создать сообщество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый политический организм, в котором большинство имеет право действовать и решать за остальных.
96. Ведь когда какое-либо число людей создано с согласия каждого отдельного лица сообщества, то они тем самым сделали это сообщество единым организмом, обладающим правом выступать как единый организм, что может происходить только по воле и решению большинства. [318] Ведь то, что приводит в действие какое-либо сообщество, есть лишь согласие составляющих его лиц, а поскольку то, что является единым целым, должно двигаться в одном направлении, то необходимо, чтобы это целое двигалось туда, куда его влечет большая сила, которую составляет согласие большинства; в противном случае оно не в состоянии выступать как единое целое или продолжать оставаться единым целым, единым сообществом, как на то согласились все объединенные в него отдельные лица; и, таким образом, каждый благодаря этому согласию обязан подчиняться большинству. И вот почему мы видим, что в законодательных собраниях, облеченных властью силою положительных законов, в тех случаях, когда в положительном законе, который облек их властью, не указано число, действие большинства считается действием целого и, разумеется, определяет силу целого, которой по закону природы и разума оно обладает.
97. И таким образом, каждый человек, согласившись вместе с другими составить единый политический организм, подвластный одному правительству, берет на себя перед каждым членом этого сообщества обязательство подчиняться решению большинства и считать его окончательным; в противном же случае этот первоначальный договор, посредством которого он вместе с другими вступил в одно общество, не будет что-либо значить и вообще не будет договором, если этот человек останется свободным и не будет иметь никаких иных уз, кроме тех, которые он имел, находясь в естественном состоянии. Ведь как тогда будет выглядеть любой договор? Какое это будет новое обязательство, если человек будет связан любыми постановлениями общества лишь постольку, поскольку он сам это считает удобным и дал на это свое согласие? Ведь тогда он будет все еще пользоваться такой же свободой, какой он пользовался до этого договора или какой пользуется человек, находящийся в естественном состоянии, который может побудить себя и согласиться на любые действия, если он считает их подходящими для себя.
98. Ведь если согласие большинства не будет разумно восприниматься как действие целого и не будет обязательным для каждого отдельного человека, то ничто, за исключением согласия каждого индивидуума, не сможет сделать что-либо действием целого; но достижение подобного согласия вряд ли является возможным, если мы примем во внимание болезни и деловые обстоятельства, которые значительному количеству людей, хотя это число и будет на [319] много меньше всех членов общества, по необходимости не дают возможности присутствовать на общем собрании. Если же к этому добавить разнообразие мнений и противоположность интересов, которые неизбежно наличествуют всегда, когда люди собираются вместе, то создание общества при подобных условиях будет напоминать только приход Катона в театр, который пришел лишь для того, чтобы сейчас же уйти. Подобное устройство сделает могучего Левиафана менее долговечным, чем самые слабые существа, и он не переживет даже дня своего рождения, а это можно предположить только в том случае, если мы сможем допустить, что разумные существа пожелают создавать общества лишь для того, чтобы они распадались; ведь если большинство не может решать за всех, то такие общества не могут выступать как единое целое, и, следовательно, они немедленно вновь распадутся.
99. Следовательно, подразумевается, что все, кто из естественного состояния объединяется в сообщество, отказываются в пользу большинства этого сообщества от всякой власти, необходимой для осуществления тех целей, ради которых они объединились в общество, если только они не договорились совершенно определенно о каком-либо числе, превышающем простое большинство. И все это совершается посредством одного лишь согласия на объединение в единое политическое общество, а это и есть весь тот договор, который существует или должен существовать между личностями, вступающими в государство или его создающими. И таким образом, то, что является началом всякого политического общества и фактически его составляет, — это всего лишь согласие любого числа свободных людей, способных образовать большинство, на объединение и вступление в подобное общество. И именно это, и только это, дало или могло дать начало любому законному правлению в мире.
100. На это мне делают два возражения.
Первое, «что не имеется примеров в истории, чтобы какая-либо группа людей, независимых и равных друг другу, сошлась и подобным образом учредила правительство».
Второе, «невозможно с точки зрения права, чтобы люди поступили подобным образом, поскольку все люди, будучи рожденными под властью какого-либо правительства, должны повиноваться ему и не свободны учреждать новое».
101. На первое я отвечу, что нет ничего удивительного, что история лишь очень мало сообщает нам о людях, которые жили вместе в естественном состоянии. Неудобства [320] подобного состояния, а также любовь к обществу и желание его вызывали то, что стоило какому-либо количеству людей встретиться, как они сразу же объединялись и вступали в соглашение, если они решали быть вместе. Если же мы не можем предположить, что люди когда-то были в естественном состоянии, лишь на том основании, что мы мало об этом слышали, то мы в равной мере можем предположить, что солдаты армий Салманасара или Ксеркса никогда не были детьми, потому что мы мало слышали о них до того, как они стали взрослыми мужчинами и составили армии. Государственный строй повсюду предшествует летописям, и литература редко появляется у народа, прежде чем длительное существование гражданского общества при помощи других более необходимых искусств обеспечило безопасность, удобства и изобилие для народа, и люди только тогда начинают интересоваться историей основателей своего государства и ищут его источник, когда из их памяти уже изгладилось воспоминание о нем. Ведь с государствами происходит то же, что и с отдельными лицами: они обычно не имеют никакого представления о своем рождении и младенчестве. А если им что-либо и известно о происхождении их государства, то они обязаны этим случайным записям, которые велись другими. Что же касается записей, которыми мы располагаем, о появлении какого-либо государства в мире, за исключением тех, где говорится о государстве евреев, когда непосредственно вмешался сам бог, причем эти записи не в пользу отцовской власти, то все они либо являются очевидными примерами такого начала, о котором я говорил, либо по крайней мере в них имеются явные следы его.
102. Тот, кто не допускает, что возникновение Рима и Венеции произошло путем объединения нескольких свободных и независимых друг от друга людей, среди которых не было ни естественного превосходства, ни подчиненности, тот должен обладать странной склонностью к отрицанию очевидных фактов, когда они не согласуются с его гипотезой. И если можно верить словам Джозефа Акосты, то он говорит нам, что во многих частях Америки вообще не было никакого государственного правления. «Имеются весьма веские и явные основания, — говорит он, — предполагать, что эти люди, а именно перуанцы, в течение длительного времени не имели ни королей, ни государств, а жили группами, как еще до сих пор живут во Флориде чериканы, индейцы Бразилии и многие другие нации, которые не имеют постоянных королей, но в случае [321] необходимости в мирное или военное время выбирают своих руководителей по собственному желанию» (кн. I, гл. 25). Если скажут, что каждый человек там родился подданным своего отца или главы семьи, то уже было доказано, что повиновение, которое ребенок оказывал отцу, не отнимало у него свободы вступить в то политическое общество, которое он считал подходящим. Но как бы то ни было, эти люди, совершенно очевидно, были действительно свободны; и какое бы превосходство некоторые политики теперь ни приписывали кому-нибудь из них, они сами на это не претендовали, но по согласию были все равными, до тех пор пока по тому же согласию они не устанавливали у себя правителей. Таким образом, их политические общества все начались с добровольного союза и с взаимного соглашения людей, действующих свободно при выборе своих правителей и форм правления.
103. И я надеюсь, что тем, кто покинул Спарту вместе с Фалантом, о чем говорится у Юстина (кн. III, гл. 4), будет позволено быть свободными людьми, независимыми друг от друга, и создать государственное правление по своему собственному соглашению. Таким образом, я привел из истории несколько примеров свободных людей, находящихся в естественном состоянии, которые, собравшись вместе, объединились и положили начало государству. И если отсутствие подобных примеров может служить аргументом, доказывающим, что государственный строй не начинался и не мог начаться таким образом, то я полагаю, что защитникам отцовской империи лучше не прибегать к подобному доказательству и не выдвигать его против естественной свободы. Ведь если они могут привести так много примеров из истории, когда государства создавались на основе отцовского права (хотя в лучшем случае аргумент, посредством которого на основе того, что было, доказывается то, что по праву должно быть, не имеет большой силы), то, мне думается, можно было бы без особой опасности уступить им в этом вопросе. Однако если мне позволено давать советы в этом случае, то им лучше было бы не слишком уж старательно разыскивать источник происхождения государств, как они уже начали de facto, а то ведь они найдут при основании большинства из этих государств нечто очень мало благоприятствующее той идее, которую они проводят, и той власти, которую они защищают.
104. В заключение следует сказать: разум совершенно очевидно на нашей стороне, и он говорит, что люди по [322] природе свободны, а исторические примеры показывают, что те государства, которые возникли на земле мирным путем, брали свое начало из этой основы и были созданы соглашением людей. Остается мало места для сомнений в том, на чьей стороне правда или каковы были мнение и практика человечества при создании первых государств. Но я не буду отрицать, что если мы оглядываемся назад настолько, насколько это нам позволяет история, к истокам происхождения государств, то мы обычно обнаруживаем, что они находились под властью и управлением одного человека. И я также склонен полагать, что в тех случаях, когда семья была достаточно многочисленной, чтобы содержать самое себя, и продолжала существовать как сплоченное целое, не смешиваясь с другими, как это часто бывает там, где имеется много земли и мало людей, правление обычно начиналось с отца. Ведь отец, обладая по закону природы той же властью, что и всякий другой человек, — наказывать в необходимых, по его мнению, случаях за любые нарушения этого закона, — мог, следовательно, наказывать своих непокорных детей даже и тогда, когда они уже были взрослыми и самостоятельными; и весьма возможно, что и они так же покорно принимали наказание от него и все объединялись вместе с ним против преступника, в свою очередь давая отцу тем самым власть выполнять свой приговор в случае какого-либо проступка, и тем самым фактически делали его законодателем и правителем всех, кто оставался в составе его семьи. Ему более чем кому-либо можно было доверять; отцовская любовь охраняла их собственность и их интересы, которые находились на его попечении; а привычка повиноваться ему с детства облегчала повиновение скорее именно ему, чем кому-нибудь другому. И следовательно, если они должны были иметь кого-либо, кто управлял бы ими, поскольку правления трудно избежать среди живущих вместе людей, то кто же, как не их общий отец, мог быть скорее всего этим человеком, если только небрежность, жестокость или какой-либо другой душевный или телесный недостаток не делали его непригодным для этого? Но в тех случаях, когда либо умирал отец и оставлял наследника, который по малолетству, недостатку ума, мужества или каких-либо других качеств менее всего был пригоден для управления, либо когда встречались несколько семейств и решали продолжать жить совместно, можно не сомневаться, что они использовали свою естественную свободу для выбора того, кого они считали наиболее способным и наиболее подхо [323] дящим для того, чтобы хорошо управлять ими. Этому соответствует то, что мы находим у народов Америки, которые (живя вне досягаемости мечей завоевателей и расширяющегося господства двух великих империй — Перу и Мексики) наслаждались своей природной свободой, хотя caeteris paribus [при прочих равных условиях] они обычно предпочитали наследника своего покойного короля; однако же если они обнаруживали его в каком-либо отношении слабым или неспособным, то обходили его и выбирали своим правителем самого крепкого и самого храброго.
106. Таким образом, хотя, оглядываясь назад на такое расстояние, какое допускают летописи, сохранившие сведения о заселении земного шара, и история народов, мы обычно обнаруживаем, что правление находилось в одних руках, однако это не опровергает того, что я утверждаю (viz.), что зарождение политического общества зависит от согласия отдельных лиц объединиться и создать одно общество и эти лица, когда они подобным образом вступили в соглашение, могут установить любую, по их мнению пригодную, форму правления. Но поскольку это дало повод людям ошибаться и полагать, что по самой своей природе правление было монархическим и принадлежало отцу, постольку не будет неуместно рассмотреть здесь, почему люди вначале обычно останавливались на этой форме; и хотя, возможно, верховенство отца могло при первоначальном учреждении некоторых государств привести к возникновению и сосредоточению вначале власти в одних руках, но все же совершенно очевидно, что причиной продолжения такой формы правления, когда оно осуществляется одним лицом, было не почтение или уважение к отцовскому авторитету; ведь все мелкие монархии, т. е. почти все монархии, недалеко ушедшие от своего первоначала, были обычно или хотя бы иногда выборными.
107. Прежде всего сначала правление отца во время детства его отпрысков приучило их к руководству одного человека, и они усвоили, что там, где оно проводится с заботой и умением, с любовью и привязанностью к тем, кто находится под его руководством, этого вполне достаточно для достижения и обеспечения людям всего того политического счастья, которого они искали в обществе. Нет ничего удивительного, что они прибегли к этой форме правления и совершенно естественно на нее натолкнулись, ведь именно к такой форме они все привыкли с детства и по опыту знали, что она необременительна и надежна. Если же к этому мы добавим, что монархия является простой [324] и самой очевидной формой для людей, которых ни опыт не научил различным формам правления, ни тщеславие и бесстыдство империи не привели к осознанию того, что надо опасаться покушений на прерогативы и остерегаться неудобств абсолютной власти, на которую склонна претендовать и которую склонна навязывать им наследственная монархия, то нет ничего странного, что они не слишком утруждали себя размышлением о методах ограничения каких-либо беззаконий со стороны тех, кому дали над собой власть, и не старались уравновесить власть правительства путем передачи отдельных частей ее в разные руки. Они не чувствовали угнетения со стороны тиранической власти, и ни обычай их эпохи, ни их владения, ни их образ жизни (который предоставлял весьма мало пищи для алчности или честолюбия) не давали им никакого повода опасаться ее или от нее защититься; и вот почему нет ничего удивительного, что они создали себе такую структуру правления, которая, как я уже сказал, не только была самой очевидной и простой, но также лучше всего подходила к их настоящему положению и состоянию, когда они более нуждались в защите от иноземных вторжений и набегов, чем во многообразии законов. При одинаковости для всех простого, бедного образа жизни, когда желания людей сдерживались узкими пределами небольшой собственности каждого, оставалось мало поводов для споров и, следовательно, не было необходимости во многих законах для их разрешения. И тогда не нужна была система правосудия, поскольку было мало проступков и мало преступников. Следовательно, нельзя не предположить, что те, кто настолько нравились друг другу, что желали объединиться в общество, были связаны каким-либо знакомством и дружбой друг с другом и доверием друг к другу; они гораздо больше опасались остальных, чем друг друга, и, таким образом, нельзя не предположить, что их первой заботой и первой мыслью было — как защитить себя от иноземных сил. Для них было естественным создать для себя такую форму правления, которая бы лучше всего служила этой цели, и избрать самого мудрого и самого храброго, для того чтобы он предводительствовал ими в войнах, и вел их против врагов, и в этом главным образом был их правителем.
108. Так, мы видим, что у американских индейцев, где все еще наблюдается та же картина, как в первые века в Азии и в Европе, когда население было слишком малочисленным для страны и отсутствие жителей и денег не [325] толкало людей на увеличение своих земельных владений или на споры из-за стремления расширить размеры своих угодий, короли представляют собой немного больше, чем генералы их армий; и хотя на войне их власть абсолютна, дома и в мирное время они обладают весьма малой властью и весьма умеренным суверенитетом; решения о мире и войне обычно выносятся либо народом, либо в совете, хотя сама война, так как она не допускает многовластия, естественно, передает командование только в руки короля.
109. И также в самом Израиле основным занятием судей и первых царей, по-видимому, было выступать в качестве полководцев на войне и предводителей армий; это совершенно явственно выступает (помимо того, что на это указывается — «выходить и входить пред народом» [Чис 27: 17], что означает, что они отправлялись на войну и возвращались домой во главе своих войск) в истории Иеффая. Аммонитяне пошли войной на Израиль, жители Галаада в страхе послали за Иеффаем, побочным отпрыском их семьи, которого они изгнали, и заключили с ним условие, что если он поможет им против аммонитян, то они сделают его своим правителем; это было выражено в следующих словах: «И народ поставил его над собой начальником и вождем» (Суд. 11, 11), что, по-видимому, было то же самое, как и быть судьей. «Иеффай был судьею Израиля» (Суд. 12, 7), т.е. был их вождем, «шесть лет». И когда Иофам порицает сихемитов. напоминая, как обязаны они были Гидеону, который был их судьей и правителем, то он говорит им: «За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею, и избавил вас от руки Мадианитян» (Суд. 19, 17). О нем говорится только то, что он совершил в качестве полководца; и действительно, это все, что мы можем найти в его истории или в остальной части Книги судей. И Авимелеха преимущественно называют царем, хотя он, самое большее, был полководцем, И когда наконец, устав от дурного поведения сыновей Самуила, дети Израиля пожелали иметь царя, «как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши» (1 Цар. 8, 20), то бог, удовлетворяя их желания, говорит Самуилу: «Я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему — Израилю, и он спасет народ мой от руки Филистимлян» (9, 16), как если бы единственное занятие царей — это предводительствовать их армиями и сражаться, защищая их; соответственно и Самуил при помазании Саула, выливая на него елей из сосуда, говорит ему: «Господь помазывает тебя в правите [326] ли наследия своего» (10, 1). Вот почему, после того как Саул торжественно был избран царем и ему отдали почести племена в Массифе, те, кто не хотел иметь его своим царем, не делали никаких возражений, кроме следующего: «Ему ли спасать нас?» (10, 27), как если бы они хотели сказать, что этот человек не подходит для того, чтобы быть их царем, так как не обладает достаточными военными способностями и опытом, чтобы быть в состоянии защитить их. А когда Господь решил передать власть Давиду, то об этом говорится в следующих словах: «Но теперь не устоять царствованию твоему: Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего» (13, 14), как будто бы вся царская власть сводилась к тому, чтобы быть их полководцем. И вот почему те колена, которые остались верными семье Саула и сопротивлялись правлению Давида, придя в Хеврон и заявляя о своем подчинении Давиду, среди прочих доводов в пользу того, что они должны повиноваться ему как своему царю, указывают на то, что он действительно был их царем во времена Саула и что, следовательно, у них нет оснований не признать его теперь своим царем. «Еще вчера, — сказали они, — и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: «ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля» [2 Цар 5: 2].
110. Следовательно, происходило ли дело таким образом, что семья постепенно вырастала и становилась государством, и отцовская власть передавалась старшему сыну, и каждый в свою очередь рос под этой властью и молчаливо ей повиновался, и необременительность ее и беспристрастие не обижали никого, и каждый с ней соглашался, пока время, по-видимому, не утвердило это и не установило право наследования в силу давности обычая; или же несколько семейств или потомки нескольких семейств, оказавшиеся вместе по воле случая, или в силу соседства, или по деловым обстоятельствам, объединялись в общество, и необходимость в полководце, под водительством которого они могли бы защитить себя от врагов на войне, и то огромное доверие, которое люди питали друг к другу в эту бедную, но добродетельную эпоху в силу ее простодушия и искренности (таковы почти все эпохи, когда создаются государства, которые впоследствии существуют длительное время), побуждали первых основателей государств обычно сосредоточивать власть в руках одного человека без каких-либо четких границ или пределов, кро [327] ме тех, каких требовал характер дела и цель правления; независимо от того, по какой из этих причин власть была первоначально вложена в руки одного лица, несомненно, что, кому бы она ни доверилась, это делалось лишь ради общественного блага и безопасности и именно в этих целях в те времена, когда государства находились в младенчестве, лица, обладавшие этой властью, обычно ее и использовали. А если бы они так не поступали, то молодые общества не могли бы существовать; не имея подобных отцов-кормильцев, заботливых и внимательных к общественному благу, все государства разрушились бы от слабости и болезней своего младенчества; и государь и народ вскоре погибли бы вместе.
111. Но хотя золотой век (прежде, чем пустое тщеславие и amor sceleratus habendi [проклятая жажда наживы], злое вожделение, развратили людские умы и создали ошибочное представление о власти и чести) обладал большей добродетелью, а следовательно, лучшими правителями, равно как и менее порочными подданными, и тогда, с одной стороны, не было превышения власти для угнетения народа и, как следствие, не было, с другой стороны, какого-либо спора о привилегиях для уменьшения или ограничения власти должностных лиц* [* «Первоначально, когда однажды был одобрен определенный порядок, то возможно, что тогда ничего больше не думали относительно образа правления, но все предоставлялось мудрости и благоразумию тех, которые должны были править, пока люди не опыте не обнаружили, что это очень неудобно для всех заинтересованных сторон, так как вещь, которую они изобрели в качестве лекарства, на самом деле только увеличила ту язву, которую должна была излечить. Они увидели, что причиной всех человеческих несчастий стало то, что люди жили по воле одного человека, что принудило их создать законы, благодаря которым все люди могли заранее видеть свои обязанности и знать, какие наказания влечет за собой их нарушение» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10)], и, таким образом, не было споров между повелителями и народом о правителях или о правлении; и все же, когда честолюбие и роскошь последующих веков стали удерживать и увеличивать власть, не делая того, ради чего эта власть была дана, и при помощи лести приучили правителей иметь собственные и отдельные от их народа интересы, тогда люди сочли необходимым более тщательно изучить происхождение и права правительства и найти способ ограничить беззакония и предотвратить злоупотребление той властью, которую они передали в другие руки лишь ради своего блага, по которую стали использовать им во вред.
[328] 112. Таким образом, мы можем видеть, насколько вероятно, что люди, которые были от природы свободными и по собственному согласию либо покорились правлению своего отца, либо объединились как представители нескольких семейств, чтобы создать государство, обычно передавали власть в руки одного человека и предпочитали повиноваться одному лицу, не ограничивая и никак не регулируя его власть, так как они доверяли его честности и благоразумию, хотя им никогда не снилось, что монархия есть jure divino, о которой мы ничего не слышали от кого-либо из представителей человечества до тех пор, пока это откровение не было нам сделано богословием этого последнего века; в равной мере люди никогда не допускали и того, чтобы отцовская власть имела право повелевать или являлась основанием всякого правления. Всего этого достаточно, чтобы показать, что в той мере, в какой мы обладаем какими-то историческими доказательствами, мы имеем основание заключить, что всякое мирное образование государства имело в своей основе согласие народа. Я говорю мирное, так как буду иметь случай говорить в другом месте о завоевании, которое некоторые считают способом происхождения государства.
Следующее возражение, которое, как я обнаружил, высказывается против образования государств тем способом, который я указывал, заключается в следующем.
113. «Поскольку все люди рождаются в том или ином государстве, то невозможно, чтобы кто-либо из них был когда-нибудь свободен и был волен объединиться с другими и положить начало новому государству или быть в состоянии создать законное правительство».
Если этот аргумент справедлив, то, спрашиваю я, каким же образом на свете появилось столько законных монархий? Ведь если кто-либо, исходя из этого предположения, может показать мне на земле какого-либо человека в любую эпоху, который свободен положить начало законной монархии, то мне придется показать ему десять других свободных людей, которые в то же время вольны объединиться и положить начало новому государству в форме монархии или какой-либо еще; тем самым показывается, что если кто-либо родившийся под властью другого может быть настолько свободным, чтобы обладать правом повелевать людьми в новой самостоятельной империи, то всякий родившийся под властью другого может быть столь же свободен, и в состоянии сделаться повелителем или подданным в самостоятельном отдельном государстве. И таким [329] образом, согласно их собственному принципу, либо все люди, независимо от своего рождения, свободны, либо же на свете существует лишь один законный государь, одно законное правительство. И тогда им ничего не остается делать, как просто показать нам, какой именно; и когда они это сделают, то я не сомневаюсь, что все человечество охотно согласится ему повиноваться.
114. Хотя это достаточный ответ на их возражение, показывающий, что оно ставит их в столь же трудное положение, как и тех, против кого они его употребляют, я все же попытаюсь еще глубже раскрыть слабость этой аргументации.
«Все люди, — говорят они, — рождаются под властью какого-либо правительства, и поэтому они не могут свободно устанавливать новое. Каждый родится подданным своего отца или своего государя и поэтому связан вечными узами повиновения и верности». Совершенно очевидно, что человечество никогда не было связано никаким природным повиновением от рождения, которое обязывало бы людей без их собственного согласия повиноваться государям и их наследникам, и никогда не соглашалось на это.
115. Ведь в истории, как священной, так и гражданской, чаще всего встречаются примеры того, как люди выходили из повиновения и отказывались подчиняться той юрисдикции, под которой они родились, и той семье или сообществу, в которых они выросли, и создавали новые государства в других местах; отсюда появилось все то множество мелких государств, которые существовали в первоначальную эпоху и количество которых непрерывно увеличивалось, до тех пор пока было достаточно места, а затем более сильный или более удачливый поглощал более слабого, а великие державы снова распадались на части и превращались в мелкие владения. Все это дает множество доказательств против отцовского правления и ясно доказывает, что не природное право отца, переходящее к его потомкам, создало вначале государство, так как на подобной основе невозможно было создать такое множество маленьких царств; все они представляли бы собой одну всеобщую монархию, если бы люди не были свободны отделяться от своих семейств и от своего государства, каково бы оно ни было, и, отделившись, создавать отдельные государства и другие правления, которые они считали подходящими.
116. Так происходило в мире от его начала до сегодняшнего дня. И сейчас свободе человечества не в большей [330] степени препятствует то, что люди рождаются в организованных и древних государствах, которые имеют установленные законы и устойчивые формы правления, чем если бы они родились в лесах среди их ничем не ограниченных обитателей, которые там скитаются. Ведь те, кто уверяет нас, что, «родившись под властью какого-либо правительства, мы, естественно, являемся его подданными» и не имеем никакого права или основания на свободу естественного состояния, не располагают никаким другим доводом (оставляя в стороне рассуждения об отцовской власти, на что мы уже, ответили), кроме того, что поскольку наши отцы и предки отказались от своей естественной свободы, то они тем самым обрекли себя и свое потомство на вечное подчинение тому правительству, которому они сами подчинились. Справедливо, что, какое бы обязательство или обещание кто-либо ни сделал от своего имени, он обязан их выполнять, но он не может ни по какому договору обязать к этому своих детей или свое потомство. Ведь его сын, став совершеннолетним, так же свободен, как и отец, и любое действие отца, может не в большей степени ограничивать свободу его сына, чем свободу кого-либо другого.
Отец действительно может обусловить подобными обязательствами право на владение той землей, которой он пользовался в качестве подданного какого-либо государства, причем эти условия могут обязывать его сына принадлежать к данному сообществу, если он хочет обладать теми владениями, которые принадлежали его отцу; поскольку данное имение — собственность его отца, то он может распоряжаться им или ставить любые условия по собственному желанию.
117. И вот это-то обычно являлось причиной ошибки в данном вопросе; так как государства не разрешают, чтобы какая-либо часть их владений была отрезана или чтобы какой-либо частью пользовался кто-либо, кроме принадлежащих к данному сообществу, то сын обычно может пользоваться владениями своего отца только на тех же условиях, на которых ими пользовался его отец. т. е. став членом общества; тем самым он сразу же ставит себя в подчинение тому правительству, которое он находит установленным, в такой же степени, как любой другой подданный этого государства. И таким образом, только согласие свободных людей, родившихся под властью какого-либо правительства, делает их членами этого государства, и это согласие дается порознь поочередно, по мере того как каждый достигает совершеннолетия, а не всеми вместе; люди не за [331] мечают этого и считают, что этого вообще не происходит или что это не обязательно, и заключают, что они являются подданными по природе, точно так же как они являются людьми.
118. Но совершенно очевидно, что сами правительства понимают это иначе; они не претендуют на власть над сыном только потому, что они обладали этой властью над отцом; точно так же они не считают детей своими подданными, хотя их отцы и находились в подданстве. Если у английского подданного рождается сын от англичанки во Франции, то чьим подданным он является? Он не является подданным английского короля, так как он еще должен быть допущен к связанным с этим привилегиям. Точно так же он не является и подданным французского короля, ведь в этом случае как мог бы его отец обладать свободой увезти его и воспитывать по собственному желанию? И разве кто-либо когда-либо считался предателем или дезертиром, если он покидал ту страну, в которой он просто родился от родителей-иностранцев, или участвовал в военных действиях против этой страны? Таким образом, совершенно очевидно, что из практики самих государств, так же как и из законов здравого разума, следует, что ребенок не рождается подданным какой-либо страны или правительства. Он находится под опекой и под властью своего отца, пока не достигает совершеннолетия; а тогда он является свободным человеком, который волен выбирать, под властью какого правительства он хочет находиться и членом какого государственного организма он хочет стать. Ведь если сын англичанина, родившийся во Франции, свободен и может так поступать, то очевидно, что на него не налагается никаких обязательств, вытекающих из того, что его отец является подданным определенного королевства; точно так же он не связан никаким из договоров, заключенных его предками. А тогда почему его сын в силу тех же причин не обладает такой же свободой, хотя бы он и родился где-либо в другом месте? Ведь власть, которой отец по природе обладает над своими детьми, является одной и той же, где бы они ни родились, и узы естественных обязательств не ограничены какими-либо конкретными границами королевств и государств.
119. Каждый человек, как было показано, по природе свободен, и ничто не в состоянии поставить его в подчинение какой-либо земной власти, за исключением его собственного согласия; необходимо рассмотреть, что следует считать достаточным выражением согласия человека, кото [331] рое влекло бы за собой его подчинение законам какого-либо правительства. Обычно различают выраженное и молчаливое согласие, которое мы сейчас и рассмотрим. Никто не сомневается, что лишь выраженное согласие какого-либо человека, вступающего в какое-либо общество, делает его подлинным членом этого общества, подданным его правительства. Трудность заключается в том, что следует понимать под молчаливым согласием и в какой степени оно обязывает, т. e. в какой степени следует считать, что человек согласился и тем самым подчинился какому-либо правительству, когда он не сделал никаких заявлений по этому поводу. На это я скажу, что всякий человек, который владеет или пользуется какой-либо частью территории какого-либо государства, тем самым дает свое молчаливое согласие и в такой же степени обязан повиноваться законам этого правительства в тот период, когда он пользуется этим владением, как и всякий другой, находящийся под властью этого правительства, независимо от того, состоит ли это владение из земли, навечно закрепленной за ним и за его наследниками, или из жилища, снятого на неделю, или же это просто право бесплатного передвижения по дорогам; и на деле оно распространяется на само существование любого человека в пределах территории этого государства.
120. Для того чтобы лучше понять это, следует принять во внимание, что каждый человек, впервые вступая в какое-либо сообщество и присоединившись к нему, присоединяет также и подчиняет обществу те владения, которые он имеет или которые приобретет и которые еще не принадлежат какому-либо другому государству. Ведь было бы прямым противоречием, если бы кто-либо вступал в общество вместе с другими для защиты и регулирования собственности и при этом предполагал, что его земля, земля человека, собственность которого должна регулироваться законами общества, должна быть изъята из юрисдикции того правительства, подданным которого является сам он, владелец этой земли. Следовательно, тем же самым актом, посредством которого кто-либо присоединяет свою персону, бывшую прежде свободной, к государству, тем же самым актом присоединяет к этому государству и свои владения, которые до того были свободными; и оба они, и персона и ее владения, становятся подчиненными правительству и власти этого государства до тех пор, пока это государство существует. Отсюда вытекает, что каждый, кто по праву наследования, покупки, разрешения или каким-либо иным [333] путем пользуется какой-либо частью земли, присоединенной подобным образом и находящейся под властью этого государства, должен принимать ее вместе с теми обязательствами, которые с этим связаны, т. е. подчиняясь правительству государства, под юрисдикцией которого находится эта земля, в такой же степени, как и каждый из подданных этого государства.
121. Но так как правительство обладает непосредственной юрисдикцией только над землей и эта юрисдикция распространяется на ее владельца (до того, как он фактически включает себя в общество), только пока он живет на этой земле и пользуется ею, то и обязательство, лежащее на каждом в силу этого пользования, подчиняться правительству начинается и кончается вместе с пользованием; таким образом, когда владелец, который не давал ничего правительству, кроме молчаливого согласия, откажется от указанного владения посредством дара, продажи или иным образом, то он свободен идти и присоединиться к любому другому государству или вступить в соглашение с другими для основания нового in vacuis locis [в свободных местах], в любой части света, которую они найдут свободной и никому не принадлежащей. Между тем тот, кто однажды посредством фактического соглашения и какого-либо явного волеизъявления дал свое согласие являться членом какого-либо государства, обязан вечно и неизменно быть и оставаться подданным этого государства и никогда снова не может пользоваться свободой естественного состояния, если только в результате какого-либо бедствия правительство, которому он подчиняется, не распадается или если оно посредством какого-либо публичного акта не лишает его права оставаться в дальнейшем членом этого общества.
122. Но если человек подчиняется законам какой-либо страны, ведет спокойную жизнь и пользуется привилегиями и защитой этих законов, то это еще не делает его членом данного общества; это только местная защита и подчинение, которые обязательны для всех тех и ожидаются от всех тех, кто, находясь в состоянии войны, пребывает на территории любого государства, на все части которого распространяется действие его законов. Однако это не в большей степени делает человека членом данного общества, вечным подданным данного государства, чем делало бы человека подданным того, в семье которого он в силу каких-либо причин пребывал некоторое время; хотя во время такого пребывания он был бы обязан повиноваться законам и подчиняться правлению, которое он там нашел.
[334] И действительно, мы видим, что иностранцы всю свою жизнь живут под властью другого правительства и пользуются привилегиями и защитой его и хотя они обязаны, даже по совести, подчиняться его велениям в такой же степени, как и местные жители, но они все же не становятся в силу этого подданными или членами данного государства. Ничто не может сделать человека таковым, кроме как его фактическое вступление в сообщество посредством положительного обязательства и непосредственно выраженного обещания и договора. Именно это, я считаю, относится к началу политических обществ, и именно такое согласие делает любого человека членом какого-либо государства.
Глава IX. О целях политического общества и правления
123. Если человек в естественном состоянии так свободен, как об этом говорилось, если он абсолютный господин своей собственной личности и владений, равный самым великим людям и никому не подчиненный, то почему расстается он со своей свободой, почему отказывается он от этой империи и подчиняет себя власти и руководству какой-то другой силы? На это напрашивается самый очевидный ответ, что хотя в естественном состоянии он обладает подобным правом, но все же пользование им весьма ненадежно и ему постоянно угрожает посягательство других. Ведь, поскольку все являются властителями в такой же степени, как и он сам, поскольку каждый человек ему равен, а большая часть людей не особенно строго соблюдает равенство и справедливость, постольку пользование собственностью, которую он имеет в этом состоянии, весьма небезопасно, весьма ненадежно. Это побуждает его с готовностью отказаться от такого состояния, которое хотя и является свободным, но полно страхов и непрерывных опасений; и не без причины он разыскивает и готов присоединиться к обществу тех, кто уже объединился или собирается объединиться ради взаимного сохранения своих жизней, свобод и владений, что я называю общим именем «собственность».
124. Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности. А для этого в естественном состоянии не хватает многого.
[335] Во-первых, не хватает установленного, определенного, известного закона, который был бы признан и допущен по общему согласию в качестве нормы справедливости и несправедливости и служил бы тем общим мерилом, при помощи которого разрешались бы между ними все споры. Ведь хотя закон природы ясен и понятен всем разумным существам, однако люди руководствуются своими интересами, к тому же они его не знают, так как не изучали, и поэтому не склонны признавать его в качестве закона, обязательного для них в применении к их конкретным делам.
125. Во-вторых, в естественном состоянии не хватает знающего и беспристрастного судьи, который обладал бы властью разрешать все затруднения в соответствии с установленным законом. Ибо каждый в этом состоянии является одновременно и судьей, и исполнителем закона природы, а люди пристрастны к себе, и страсть и месть очень даже могут завести их слишком далеко и заставить проявить слишком большую горячность в тех случаях, когда дело касается их самих; точно так же небрежность и безразличие могут сделать их слишком невнимательными к делам других людей.
126. В-третьих, в естественном состоянии часто недостает силы, которая могла бы подкрепить и поддержать справедливый приговор и привести его в исполнение. Те, кто совершает какую-либо несправедливость, вряд ли удержатся от того, чтобы силой настоять на своем, когда они в состоянии это сделать: подобное сопротивление часто делает наказание опасным и нередко гибельным для тех, кто пытается его осуществить.
127. Таким образом, люди, несмотря на все преимущества естественного состояния, находятся в скверных условиях, пока они в нем пребывают, и быстро вовлекаются в общество. Вот почему получается так, что мы редко видим, чтобы какое-либо количество людей сколько-нибудь длительное время жило вместе в этом состоянии. Неудобства, которым они при этом подвергаются в результате беспорядочного и ненадежного применения власти, которой обладает каждый человек для наказания проступков других, вынуждают их искать убежища под сенью установленных правительством законов, и здесь они стремятся найти сохранение своей собственности. Именно это побуждает их столь охотно отказываться от того индивидуального права на наказание, которым обладает каждый, для того чтобы оно осуществлялось только тем из них, кто будет [336] назначен на это, и посредством тех законов, о которых согласятся сообщество или уполномоченные на то лица. И вот это-то и является первоначальным правом и источником как законодательной, так и исполнительной власти, а равно и самых правительств и обществ.
128. Ведь в естественном состоянии, не говоря о свободе, которой человек обладает для невинных развлечений, он обладает двумя видами власти. Во-первых, это власть делать то, что он считает необходимым для сохранения себя и других в рамках закона природы. По этому закону, общему для всех, он и все остальное человечество представляют собой одно сообщество, составляют единое общество, отличное от всех других творений. И если бы не разложение и порочность выродившихся людей, то не требовалось бы никакого другого; не было бы необходимости, чтобы люди отделялись от этого великого и естественного сообщества и посредством положительных соглашений составляли ряд меньших отдельных объединений.
Другая власть, которой обладает человек в естественном состоянии, — это власть наказывать за преступления, совершенные против данного закона. От обоих этих видов власти он отказывается, когда присоединяется к частному, если я могу так выразиться, или отдельному политическому обществу и вступает в какое-либо государство, отделенное от остального человечества.
129. От первой власти, viz. совершить все, что он считает необходимым для сохранения себя и остальной части человечества, он отказывается ради того, чтобы это регулировалось законами, созданными обществом, в той мере, в какой этого потребует сохранение его самого и остальной части этого общества; а эти законы общества во многих отношениях ограничивают ту свободу, которую он имел по закону природы.
130. Во-вторых, от власти наказывать он отказывается полностью и употребляет свою естественную силу (которую он до того мог использовать для исполнения закона природы по своему собственному единоличному решению, когда считал это необходимым) для оказания помощи исполнительной власти общества в той мере, в какой этого потребует закон. Ведь, находясь теперь в новом состоянии, в котором он будет пользоваться многими благами благодаря труду, помощи и обществу других членов того же сообщества, равно как и защитой всей его силы, он должен также расстаться в такой же мере со своей естественной [337] свободой ради обеспечения себя, в какой этого потребуют благо, процветание и безопасность общества; это не только необходимо, но и справедливо, поскольку остальные члены общества поступают подобным же образом.
131. Но хотя люди, когда они вступают в общество, отказываются от равенства, свободы и исполнительной власти, которыми они обладали в естественном состоянии, и передают их в руки общества, с тем чтобы в дальнейшем этим располагала законодательная власть в той мере, в какой этого будет требовать благо общества, все же это делается каждым лишь с намерением как можно лучше сохранить себя, свою свободу и собственность (ведь нельзя предполагать, чтобы какое-либо разумное существо сознательно изменило свое состояние на худшее). Власть общества или созданного людьми законодательного органа никогда ни может простираться далее, нежели это необходимо для общего блага; эта власть обязана охранять собственность каждого, не допуская тех трех неудобств, о которых говорилось выше и которые делали естественное состояние столь небезопасным и ненадежным. И кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным народу, а не путем импровизированных указов; править с помощью беспристрастных и справедливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов, и применять силу сообщества в стране только при выполнении таких законов, а за рубежом — для предотвращения вреда или для получения возмещения за него и для охраны сообщества от вторжений и захватов. И все это должно осуществляться ни для какой иной цели, но только в интересах мира, безопасности и общественного блага народа.
Глава Х. О формах государства
132. Поскольку с момента объединения людей в общество большинство обладало, как было показано, всей властью сообщества, то оно могло употреблять всю эту власть для создания время от времени законов для сообщества и для осуществления этих законов назначенными им должностными лицами; в этом случае форма правления будет представлять собой совершенную демократию; или [338] же оно может передать законодательную власть в руки нескольких избранных лиц и их наследников или преемников, и тогда это будет олигархия; или же в руки одного лица, и тогда это будет монархия; если в руки его и его наследников, то это наследственная монархия; если же власть передана ему только пожизненно, а после его смерти право назначить преемника возвращается к большинству, то это выборная монархия. И в соответствии с этим сообщество может устанавливать сложные и смешанные формы правления и в зависимости от того, что оно считает лучшим. И если законодательная власть первоначально была передана большинством одному или нескольким лицам лишь пожизненно или на какое-то ограниченное время, а затем верховная власть снова должна была вернуться к большинству, то, когда это происходило, сообщество могло снова передать ее в какие ему угодно руки и, таким образом, создать новую форму правления. Ибо форма правления зависит от того, у кого находится верховная власть, которая является законодательной (невозможно предположить, чтобы низшая власть предписывала высшей или чтобы кто бы то ни было, кроме верховной власти, издавал законы); в соответствии с этим форма государства определяется тем, у кого находится законодательная власть.
133. Под государством я все время подразумеваю не демократию или какую-либо иную форму правления, но любое независимое сообщество (any independent community), которое латиняне обозначили словом «civitas»; этому слову в нашем языке лучше всего соответствует слово «государство» (common wealth), оно более точно выражает понятие, обозначающее такое общество людей, а английские слова «община» (community) или «город» (citty) его не выражают, ибо в государстве могут быть подчиненные общины, а слово «город» у нас имеет совершенно иное значение, чем «государство». Вот почему во избежание двусмысленности я стараюсь использовать слово «государство» в этом смысле, в котором, как я обнаружил, его употреблял король Яков I, и я полагаю, что это подлинное значение данного слова; если же кому-либо это не нравится, то я готов с ним согласиться, как только он заменит его более подходящим словом.
[339] Глава XI. Об объеме законодательной власти
134. Основной целью вступления людей в общество является стремление мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и средством для этого служат законы, установленные в этом обществе; первым и основным положительным законом всех государств является установление законодательной власти; точно так же первым и основным естественным законом, которому должна подчиняться сама законодательная власть, является сохранение общества и (в той мере, в какой это будет совпадать с общественным благом) каждого члена общества. Эта законодательная власть является не только верховной властью в государстве, но и священной и неизменной в руках тех, кому сообщество однажды ее доверило. И ни один указ кого бы то ни было, в какой бы форме он ни был задуман и какая бы власть его ни поддерживала, не обладает силой и обязательностью закона, если он не получил санкции законодательного органа, который избран и назначен народом. Ибо без этого данный закон не будет обладать тем, что совершенно необходимо для того, чтобы он стал действительно законом, — согласием общества, выше которого нет ничего, и издавать законы не может иметь права никто, кроме как с согласия этого общества* [* «Законная власть издавать законы, управляющие целыми политическими обществами людей, настолько принадлежит тем же самым обществам в целом, что если какой-либо государь или монарх на земле стал бы осуществлять это сам, а не но предписанию, непосредственно и лично полученному от Бога, и не на основании полномочий, вытекающих первоначально из согласия тех лиц, которые должны подчиниться его законам, то это ничем не лучше обычной тирании. Те законы, которые не получили, следовательно, общественного одобрения, не являются законами» (Гукер. Церковн. полит., кн. I, разд. 10). «По этому поводу мы, следовательно, должны заметить, что так как люди по природе не обладают полной и абсолютной властью повелевать целыми политическими сообществами людей, то поэтому совершенно без нашего согласия мы не можем быть в подчинении какого-либо человека. А на то, чтобы нами повелевали, мы соглашаемся, если то общество, частью которого мы являемся, когда-либо прежде на это согласилось и не отменило позднее этого соглашения подобным же всеобщим решением. Следовательно, человеческие законы, какого бы рода они ни были, создаются только посредством соглашения» (Там же)] и на основании власти, полученной от его членов. И следовательно, все то повиновение, которое любой может быть обязан посредством самых торжественных обязательств оказывать, [340] в конце концов заканчивается в этой верховной власти и направляется теми законами, которые она издает. И никакая присяга какой-либо иностранной державе, и никакая отечественная подчиненная власть не могут освободить любого члена общества от повиновения законодательному органу, действующему по доверию от общества; равным образом нельзя любого члена общества обязать повиноваться чему-либо противному изданным таким образом законам или же повиноваться в большей степени, чем они это допускают: смешно воображать, что кто-либо может быть обязан полностью повиноваться какой-либо власти в обществе, которая не является верховной властью.
135. Хотя законодательная власть, независимо от того, сосредоточена ли она в руках одного человека или нескольких, осуществляется ли она непрерывно или только через определенные промежутки, хотя она и является верховной властью в каждом государстве, но все же:
Во-первых, она не является и, вероятно, не может являться абсолютно деспотической в отношении жизни и достояния народа. Ведь она представляет собой лишь соединенную власть всех членов общества, переданную тому лицу или собранию, которые являются законодателями; она не может быть больше той власти, которой обладали эти лица, когда они находились в естественном состоянии, до того, как они вступили в общество и передали эту власть сообществу. Ибо никто не может передать другому большую власть, нежели та, которую он сам имеет, и никто не обладает абсолютной деспотической властью над собой или над кем-либо другим, правом лишить себя жизни или лишить жизни или имущества другого. Человек, как было доказано, не может подчинять себя деспотической власти другого; и так как в естественном состоянии он не обладал деспотической властью над жизнью, свободой или собственностью другого, но имел лишь такую власть, какую закон природы давал ему для сохранения себя и остальной части человечества, то это, следовательно, все, что он дает или может передать государству, а тем самым законодательной власти, так что законодательная власть не может иметь больше этого. Эта власть в своих самых крайних пределах ограничена общественным благом. Она не имеет иной цели, кроме сохранения [общества], и, следовательно, никогда не может иметь права уничтожать, порабощать или [341] умышленно разорять подданных* [* «Общества покоятся на двух основах; одна из них — естественная склонность, вследствие чего все люди стремятся к общественной жизни и товариществу; вторая — порядок, а отношении которого было достигнуто явное или тайное соглашение, затрагивающее характер их союза при совместной жизни; это последнее представляет собой то, что мы называем законом государства, подлинной душой политического организма, части которого оживляются законом, держатся им вместе и побуждаются к действию в том направлении, в каком этого требует общественное благо. Политические законы, установленные для поддержания внешнего порядка среди людей и управления ими, никогда не бывают сформулированы так, как они должны быть сформулированы, если только мы не предположим, что воля человека по своей внутренней сущности упряма, мятежна и отвращается от всякого повиновения священным законам его природы; одним словом, если только мы не предположим, что человек в отношении своего развращенного ума ненамного лучше дикого зверя, и тогда законы, несмотря на это, дают возможность так направлять его внешние действия, чтобы эти действия не были препятствием для общего блага, ради которого созданы общества. Если они этого не делают, они не являются совершенными» (Гукер. Церковн. полит., кн. 1, разд. 10)]. Обязательства закона природы не перестают существовать в обществе, но только во многих случаях они более четко выражены, и в соответствии с человеческими законами им сопутствуют известные наказания, для того чтобы принудить их соблюдать. Таким образом, закон природы выступает как вечное руководство для всех людей, для законодателей в такой же степени, как и для других. Те законы, которые они создают для направления действий других людей, должны, так же как и их собственные действия и действия других людей, соответствовать закону природы, т. е. божьей воле, проявлением которой он является; и так как основным законом природы является сохранение человечества, то никакая человеческая санкция не может быть благодетельной или обоснованной, если она тому противоречит.
136. Во-вторых, законодательная, или высшая, власть не может брать на себя право повелевать посредством произвольных деспотических указов* [* «Человеческие законы являются мерилом в отношении людей, действия которых они должны направлять; однако, хотя они и являются таким мерилом, для них существуют также высшие законы, которыми они меряются, и этих законов два: закон бога и закон природы; таким образом, человеческие законы должны создаваться в соответствии с общими законами природы и так, чтобы они не противоречили какому-либо определенному закону Священного писания. В противном случае эти законы дурно созданы» (Гукер. Церковн. полит., кн. III, разд. 9). «Сдерживать людей до такой степени, чтобы это причиняло им неудобства, по-видимому, неразумно» (Там же, кн. I, разд. 10)]; наоборот, она обязана отправлять правосудие и определять права подданного посредством провозглашенных постоянных законов и известных уполномоченных на то судей. Ведь так как закон при [342] роды не является писанным законом и его нигде нельзя найти, кроме как в умах людей, то тех, кто благодаря страсти или личным интересам будет искажать или неправильно применять его, не так-то легко убедить в их ошибке, если не имеется поставленного на то судьи. В этом случае закон не служит, как он должен, для того, чтобы определять права и охранять собственность тех, на кого распространяется его действие, в особенности там, где каждый к тому же является судьей, толкователем и исполнителем его, и притом в своем собственном деле; и тот, на чьей стороне право, обычно располагает только своей личной силой, а следовательно, не имеет достаточной силы, чтобы защитить себя от обид или чтобы наказать преступников. Для того чтобы избежать этих неудобств, которые приводят в расстройство человеческую собственность в естественном состоянии, люди объединяются в общество, дабы иметь объединенную силу всего общества для сохранения и защиты своей собственности и иметь постоянные законы, определяющие ее, благодаря которым каждый может знать, что ему принадлежит. Для этого люди передают всю свою природную власть обществу, в которое они вступают, а сообщество вкладывает законодательную власть в руки тех, кого оно считает для этого подходящими; при этом люди надеются, что ими будут управлять посредством провозглашенных законов, в противном же случае их мир, покой и собственность будут по-прежнему в таком же неопределенном положении, как и в естественном состоянии.
137. Абсолютная деспотическая власть, или управление без установленных постоянных законов, не может ни в какой мере соответствовать целям общества и правительства, для которых люди отказались от свободы естественного состояния и связали себя соответствующими узами, только чтобы сохранить свою жизнь, свободу и имущество и чтобы с помощью установленных законоположений о праве и собственности обеспечить свой мир и покой. Нельзя предположить, чтобы они намеревались, даже если бы они и были в состоянии поступить так, передать какому-либо лицу или нескольким лицам абсолютную деспотическую власть над своими личностями и достоянием и вложить власть в руки должностного лица для того, чтобы тот неограниченно творил произвол в отношении их. Ведь это значило бы поставить себя в еще более худшее положение, чем естественное состояние, когда они обладали свободой защищать свои права от посягательств других и в равной мере имели силу, чтобы отстоять их, подверг [343] шись нападению одного человека или сразу многих. Если же мы предположим, что они подчиняли себя абсолютной деспотической власти и воле одного законодателя, то они обезоружили себя и вооружили его, так что он в любую минуту может сделать их своей добычей. Ведь в гораздо худшем положении находится тот, кто зависит от деспотической власти одного человека, имеющего у себя под началом 100 000, чем тот, кто подчиняется деспотической власти 100 000 отдельных людей; ведь никто не может иметь гарантию, что воля того, кто имеет подобную власть, лучше, чем воля других людей, хотя бы его сила и была в 100 000 раз больше. И следовательно, какова бы ни была форма государства, правящая власть должна управлять с помощью провозглашенных и установленных законов, а не импровизированных приказов и неопределенных решений. Ибо человечество очутится в гораздо худшем положении, чем в естественном состоянии, если оно вооружит одного человека или немногих людей объединенной силой множества, для того чтобы принудить это множество людей повиноваться произволу непомерных и выходящих за рамки возможного требований, которые вдруг взбредут им на ум, или ничем не ограниченной и до этого момента неизвестной воле при отсутствии каких-либо установленных мерил, которые могли бы направлять действия властвующих и оправдывать их. Ведь вся власть правительства существует только для блага общества, и, поскольку она не должна быть деспотической и произвольной, постольку она должна осуществляться при помощи установленных и опубликованных законов, так чтобы и народ знал свои обязанности и находился в безопасности в пределах закона, и правители также держались в своих границах и не испытывали бы искушения благодаря находящейся в их руках власти применять ее в таких целях и с помощью таких мер, о которых они не дерзнули бы заявить открыто.
138. В-третьих, верховная власть не может лишить какого-либо человека какой-либо части его собственности без его согласия. Ибо сохранение собственности является целью правительства, и именно ради этого люди вступают в общество; и, таким образом, отсюда по необходимости предполагается и требуется, чтобы люди обладали собственностью, так как без этого следует предположить, что они, вступая в общество, теряют то, что являлось целью, ради которой они вступили в него; это слишком большая нелепость, вряд ли кто-либо с ней согласится. Следовательно, люди, находясь в обществе, обладают собствен [344] ностью; они имеют такое право на имущество, которое по закону сообщества является их собственностью, что никто не имеет права отнять у них их добро или какую-либо его часть без их собственного согласия; без этого они не имеют вообще никакой собственности. Ведь я действительно не имею никакой собственности, если другой может по праву отнять ее у меня, когда ему заблагорассудится, без моего согласия. Таким образом, ошибочно думать, что верховная, или законодательная, власть любого государства может делать все, что ей угодно, и деспотически распоряжаться имуществом подданных или брать часть этого имущества по собственной прихоти. Этого можно не очень опасаться в тех системах правления, где законодательный орган состоит, полностью или целиком, из собраний, состав которых меняется, а члены которого после роспуска подчиняются общим законам своей страны наравне с прочими. Но в тех системах правления, где законодательный орган представляет собой одно постоянно действующее собрание или же вся законодательная власть сосредоточена в руках одного человека, как в абсолютных монархиях, все же существует опасность, что эти лица или лицо будут считать, что они имеют особые интересы, отличные от интересов остальной чисти сообщества, и поэтому будут склонны увеличивать свои собственные богатства и власть, беря все, что им вздумается, у народа. Ведь собственность человека вовсе не находится в безопасности, хотя бы имелись хорошие и справедливые законы, отделяющие его собственность от собственности его сограждан, если тот, кто повелевает этими гражданами, обладает властью изъять у любого частного лица любую долю его собственности, по своему желанию и пользоваться и располагать ею, как ему заблагорассудится.
139. Но правительство, в чьих бы руках оно ни находилось, как я уже показал, обладает властью только на том условии иради той цели, чтобы люди могли иметь и обеспечить свою собственность; государь или сенат, какой бы властью они ни обладали для издания законов, регулирующих собственность между подданными, все же никогда не могут обладать властью брать себе всю или какую-либо часть собственности подданных без их собственного согласия, ведь это фактически значило бы оставить подданных вообще без всякой собственности. И для того чтобы убедиться, что даже абсолютная власть там, где она необходима, не является деспотической, будучи абсолютной, но все же ограничена теми обстоятельствами и определяется теми [345] целями, которые требуют, чтобы в некоторых случаях эта власть была абсолютной, нам достаточно рассмотреть обычную практику воинской дисциплины. Сохранение армии, а тем самым всего государства требует абсолютного повиновения приказу каждого вышестоящего офицера, и вполне справедливо, что за неповиновение или оспоривание самых опасных или неразумных приказов полагается смерть; и все же мы видим, что сержант, который может приказать солдату подойти к жерлу пушки или стоять в проломе крепостной стены, где он почти наверняка погибнет, не может приказать этому солдату дать ему хотя бы пенни из своих денег; точно так же и генерал, который может приговорить его к смерти за самовольное оставление поста или за неповиновение самым безрассудным приказам, не может при всей своей абсолютной власти над жизнью и смертью распорядиться хотя бы одним фартингом из собственности этого солдата или присвоить хотя бы малую толику из его имущества; и тем не менее этому солдату он может приказать все, что угодно, и повесить за малейшее неповиновение, так как подобное слепое повиновение необходимо для достижения той цели, ради которой командир обладает своей властью, т. е. для сохранения остальных; но право распоряжаться его имуществом не имеет к этому никакого отношения.
140. Это правда, что правительства не могут содержаться без больших расходов, и каждый, кто пользуется своей долей защиты, должен платить из своего имущества свою долю на его содержание. Но все же это должно делаться с его собственного согласия, т. е. с согласия большинства, которое дает его либо само, либо через посредство избранных им представителей. Ведь если кто-либо будет претендовать на право вводить и взимать налоги с народа своей собственной властью и без такого согласия со стороны народа, то он тем самым посягает на основной закон собственности и препятствует осуществлению цели правительства. Ибо каким правом собственности могу я обладать на то, что другой может по праву взять себе, когда ему заблагорассудится?
141. В-четвертых, законодательный орган не может передать право издавать законы в чьи-либо другие руки. Ведь это право, доверенное народом, и те, кто им обладает, не могут передавать его другим. Только народ может устанавливать форму государства, делая это посредством создания законодательной власти и назначения тех, в чьих руках она будет находиться. И когда народ заявил: мы бу [346] дем подчиняться предписаниям и управляться законами, созданными для нас такими-то людьми и в такой-то форме,— никто больше не может сказать, что другие люди будут создавать законы для народа; точно так же и народ не может быть связан какими-либо иными законами, кроме тех, которые изданы теми, кто был избран народом и уполномочен создавать для него законы. Законодательная власть, поскольку она исходит от народа через посредство положительного добровольного дара и учреждения, не может быть ничем иным, кроме как тем, что передано этим положительным даром, а он был сделан только для создания законов, а не для создания законодателей, и законодательный орган не имеет права передоверять свою законодательную власть и передавать ее в другие руки.
142. Вот те пределы, которые полномочия, данные обществом, и закон бога и природы установили для законодательной власти всякого государства, во всех формах правления.
Во-первых, они должны управлять посредством опубликованных установленных законов, которые не должны меняться в каждом отдельном случае; напротив, должен существовать один закон для богатого и бедного, для фаворита при дворе и для крестьянина за плугом.
Во-вторых, эти законы не должны предназначаться ни для какой иной конечной цели, кроме как для блага народа.
В-третьих, они не должны повышать налоги на собственность народа без согласия народа, данного им самим или через его представителей. И это, собственно, касается только таких государств, где законодательный орган действует непрерывно или по крайней мере где народ не сохранил какую-то часть законодательной власти за депутатами, которые время от времени избираются им самим.
В-четвертых, законодательный орган не должен и не может передавать законодательную власть кому-либо другому или передоверять ее кому-либо, кроме как тем, кому ее доверил народ.
Глава XII. О законодательной, исполнительной и федеративной власти в государстве
143. Законодательная власть — это та власть, которая имеет право указывать, как должна быть употреблена сила государства для сохранения сообщества и его членов. Но [347] так как те законы, которые должны постоянно соблюдаться и действие которых непрерывно, могут быть созданы за короткое время, то нет необходимости, чтобы законодательный орган действовал все время и тогда, когда ему нечего будет делать. И кроме того, поскольку искушение может быть слишком велико при слабости человеческой природы, склонной цепляться за власть, то те же лица, которые обладают властью создавать законы, могут также захотеть сосредоточить в своих руках и право на их исполнение, чтобы, таким образом, сделать для себя исключение и не подчиняться созданным ими законам и использовать закон как при его создании, так и при его исполнении для своей личной выгоды; тем самым их интересы становятся отличными от интересов всего сообщества, противоречащими целям общества и правления. Вот почему в хорошо устроенных государствах, где благо целого принимается во внимание так, как это должно быть, законодательная власть передается в руки различных лиц, которые, собравшись должным образом, обладают сами или совместно с другими властью создавать законы; когда же они это исполнили, то, разделившись вновь, они сами подпадают под действие тех законов, которые были ими созданы; это для них новая и непосредственная обязанность, которая побуждает их следить за тем, чтобы они создавали законы для блага общества.
144. Но так как законы, которые создаются один раз и в короткий срок, обладают постоянной и устойчивой силой и нуждаются в непрерывном исполнении или наблюдении за этим исполнением, то необходимо, чтобы все время существовала власть, которая следила бы за исполнением тех законов, которые созданы и остаются в силе. И таким образом, законодательную и исполнительную власть часто надо разделять.
145. Существует еще одна власть в каждом государстве, которую можно назвать природной, так как она соответствует той власти, которой по природе обладал каждый человек до того, как он вступил в общество. Ведь хотя в государстве члены его являются отличными друг от друга личностями и в качестве таковых управляются законами общества, все же по отношению к остальной части человечества они составляют одно целое, которое, как прежде каждый из его членов, все еще находится в естественном состоянии по отношению к остальной части человечества. Отсюда следует, что все споры, которые возникают между кем-либо из людей, находящихся в обществе, с те [348] ми, которые находятся вне общества, ведутся народом; и ущерб, нанесенный одному из его членов, затрагивает, в вопросе о возмещении этого ущерба, весь народ. Таким образом, принимая это во внимание, все сообщество представляет собой одно целое, находящееся в естественном состоянии по отношению ко всем другим государствам или лицам, не принадлежащим к этому сообществу.
146. Следовательно, сюда относится право войны и мира, право участвовать в коалициях и союзах, равно как и право вести все дела со всеми лицами и сообществами вне данного государства; эту власть, если хотите, можно назвать федеративной. Лишь бы была понята сущность, а что касается названия, то мне это безразлично.
147. Эти две власти, исполнительная и федеративная, хотя они в действительности отличаются друг от друга, так как одна из них включает в себя исполнение муниципальных законов общества внутри его самого по отношению ко всему, что является его частями, другая же включает в себя руководство внешними безопасностью и интересами общества в отношениях со всеми теми, от кого оно может получить выгоду или потерпеть ущерб, все же эти два вида власти почти всегда объединены. И хотя эта федеративная власть при хорошем или дурном ее осуществлении имеет огромное значение для государства, все же она менее способна руководствоваться предшествующими постоянными положительными законами, чем исполнительная власть; и поэтому по необходимости она должна предоставляться благоразумию и мудрости тех, в чьих руках она находится, для того чтобы она была направлена на благо общества. Ведь законы, касающиеся взаимоотношений подданных друг с другом, направлены на руководство их действиями и вполне могут предшествовать им. Но то, что следует сделать в отношении иностранцев, во многом зависит от их поступков и от различных замыслов и интересов, и это по большей части следует предоставлять благоразумию тех, кому доверена эта власть, чтобы они могли руководствоваться самым лучшим, что дает их искусство, ради пользы государства.
148. Хотя, как я сказал, исполнительная и федеративная власть в каждом сообществе в действительности отличается друг от друга, все же их вряд ли следует разделять и передавать одновременно в руки различных лиц. Ведь обе эти власти требуют для своего осуществления силы общества, и почти что невыполнимо сосредоточивать силу государства в руках различных и друг другу не подчинен [349] ных лиц или же создавать такое положение, когда исполнительная и федеративная власть будут доверены лицам, которые могут действовать независимо, вследствие его сила общества будет находиться под различным командованием, а это может рано или поздно привести к беспорядку и гибели.
Глава XIII. О соподчиненности властей в государстве
149. Хотя в конституционном государстве, опирающемся на свой собственный базис и действующем в соответствии со своей собственной природой, т. е. действующем ради сохранения сообщества, может быть всего одна верховная власть, а именно законодательная, которой все остальные подчиняются, и должны подчиняться, все же законодательная власть представляет собой лишь доверенную власть, которая должна действовать ради определенных целей, и поэтому по-прежнему остается у народа верховная власть устранять или заменять законодательный орган, когда народ видит, что законодательная власть действует вопреки оказанному ей доверию. Ведь вся переданная на основе доверия власть предназначается для достижения одной цели и ограничивается этой целью; когда же этой целью явно пренебрегают или оказывают ей сопротивление, то доверие по необходимости должно быть отобрано, и власть возвращается в руки тех, кто ее дал, и они снова могут поместить ее так, как они сочтут лучше для их безопасности и благополучия. И таким образом,сообщество постоянно сохраняет верховную власть для спасения себя от покушений и замыслов кого угодно, даже своих законодателей, в тех случаях, когда они окажутся настолько глупыми или настолько злонамеренными, чтобы создавать и осуществлять заговоры против свободы и собственности подданного. Ведь ни один человек и ни одно общество людей не обладают властью передать свое сохранение или, следовательно, средства к тому абсолютной воле и деспотическому господству другого; когда кто-либо будет стараться привести их в такое рабское состояние, то они всегда будут сохранять право на то, с чем они не имеют права расстаться, а также право избавить себя от тех, кто посягает на этот основной священный и неизменный закон самосохранения, ради которого они вступили в общество. И таким образом, можно сказать, что в этом отношении [350] сообщество всегда представляет собой верховную власть, но его нельзя считать таковой при наличии какой-либо формы правления, так как эта власть народа не может осуществляться до тех пор, пока не распущено правительство.
150. Во всех случаях, пока существует правление, законодательная власть является верховной. Ведь то, что может создавать законы для других, необходимо должно быть выше их; а поскольку законодательная власть является законодательной в обществе лишь потому, что она обладает правом создавать законы для всех частей и для каждого члена общества, предписывая им правила поведения и давая силу для наказания, когда они нарушены, постольку законодательная власть по необходимости должна быть верховной и все остальные власти в лице каких-либо членов или частей общества проистекают из нее и подчинены ей.
151. В некоторых государствах, где законодательный орган не всегда действует, а исполнительная власть доверена одному лицу, которое также участвует и в законодательном органе, то это одно лицо с некоторой натяжкой можно также назвать верховным. Не потому, что этот человек носит в себе всю верховную власть, каковой является власть законодательная, но потому, что он сам в себе носит право верховного исполнения, из чего проистекают все различные подчиненные виды власти или по крайней мере наибольшая часть их, которыми обладают все нижестоящие должностные лица; так как над ним нет вышестоящего законодательного органа, так как нет такого закона, который мог бы быть создан без его согласия, — а вряд ли можно ожидать, что будет такой закон, который когда-либо подчинит его остальной части законодательного органа, — то он вполне справедливо в этом отношении может быть назван верховным. Но следует отметить, что, хотя ему приносится присяга и клятва на верность, она приносится ему не как верховному законодателю, а как верховному исполнителю закона, созданного совместной властью его и других: присяга представляет собой лишь повиновение в соответствии с законом; когда же он нарушает этот закон, то он не имеет права притязать на повиновение и не может его требовать иначе, кроме как будучи общественным деятелем, наделенным властью закона; и поэтому его следует считать образом, фантомом или представителем государства, движимым волею общества, объявленной в его законах; и следовательно, он не имеет ни воли, ни [351] власти, кроме тех, которыми обладает закон. Но когда он теряет это представительство, эту общественную волю и действует по своей личной воле, то он роняет себя и является лишь частным лицом без власти и без воли, которое не имеет права на повиновение; члены общества обязаны повиноваться только воле общества.
152. Исполнительная власть, если она находится где угодно, но только не в руках лица, которое участвует также и в законодательном органе, явно является подчиненной и подотчетной законодательной власти и может быть по желанию изменена и смещена; это значит, что не высшая исполнительная власть свободна от подчинения, а высшая исполнительная власть, доверенная одному человеку, который, принимая участие в законодательном органе, не имеет отдельного вышестоящего законодательного органа, которому он подчиняется и подотчетен, подчинен тому лишь в такой степени, в какой он сам примкнет и даст свое согласие; таким образом, он подчинен не в большей степени, чем он сам будет это считать нужным, а это, как можно с уверенностью заключить, будет лишь в самой незначительной степени. О прочих министерских и подчиненных властях в государстве нет необходимости говорить, поскольку они столь многочисленны и существуют в таком бесконечном разнообразии, в разных обычаях и учреждениях отдельных государств, что невозможно подробно рассказать о всех них. Мы коснемся лишь того, что необходимо для наших целей, и отметим, что ни одно из них не обладает каким-либо видом власти, кроме той, которая передана им посредством определенного дара и поручения, и все они подотчетны какой-либо другой власти в государстве.
153. Нет никакой необходимости и даже нет большого удобства в том, если законодательный орган будет действовать непрерывно. Однако это абсолютно необходимо для исполнительной власти: ведь не всегда имеется нужда в создании новых законов, но всегда необходимо выполнять те законы, которые созданы. Когда законодательный орган передал исполнение созданных им законов в другие руки, то у него все еще остается власть взять это из других рук, когда к тому будет причина, и наказать за любое дурное управление, нарушающее законы. То же самое справедливо и в отношении федеративной власти, так как и она, и исполнительная власть — обе являются министериальными и подчиненными по отношению к законодательной власти, которая, как было показано, в конституционном [352] государстве является верховной. В этом случае также предполагается, что законодательный орган состоит из нескольких лиц (если он будет состоять из одного лица, то он не может не действовать непрерывно, и, таким образом, как верховная власть, естественно, будет обладать верховной исполнительной властью наряду с законодательной), которые могут собираться и осуществлять свои, законодательные функции в те сроки, какие предусмотрены в первоначальной конституции или определены их решением при окончании предыдущей сессии, или же тогда, когда им заблагорассудится, если нигде не было предусмотрено какое-либо время созыва либо же их созыв не был предписан каким-либо другим образом. Ведь верховная власть им доверена народом, они всегда являются ее носителями и могут осуществлять ее, когда им угодно, если только их первоначальная конституция не ограничивает их определенными периодами или если они посредством акта той верховной власти, которой они обладают, не перенесли это на определенный срок, и тогда, когда настанет этот срок, они имеют право собраться и снова действовать.
154. Если законодательный орган или какая-либо часть его состоят из представителей, избранных на этот срок народом, которые впоследствии возвращаются в обычное состояние подданных и не принимают участия в законодательном органе, кроме как по новому выбору, то это право выбора должно также осуществляться народом либо в определенные назначенные сроки, либо же тогда, когда он будет призван к этому. В этом последнем случае право созывать законодательный орган обычно дается исполнительной власти и имеет одно из следующих двух ограничений в отношении срока: либо первоначальная конституция требует, чтобы представители собирались и действовали через определенные промежутки, и тогда исполнительная власть не делает ничего, кроме официального издания руководств к их выбору и созыву в соответствии с должными формами, или же благоразумию исполнительной власти предоставляется выносить решение об их созыве путем новых выборов, когда обстоятельства или острые нужды народа требуют изменения старых законов, или создания новых, или же устранения либо предотвращения любых неудобств, которые терпит народ или которые ему угрожают.
155. Здесь могут спросить: что произойдет, если исполнительная власть, обладая силой государства, использует эту силу, чтобы воспрепятствовать созыву и работе [353] законодательного органа, в то время как первоначальная конституция или народные нужды требуют этого? Я утверждаю, что применение силы в отношении народа без всякого на то права и в противоречие доверию, оказанному тому, кто так поступает, представляет собой состояние войны с народом, который обладает правом восстановить свой законодательный орган, чтобы он осуществлял его власть. Ибо народ создал законодательный орган для того, чтобы он осуществлял его законодательную власть либо в определенное время, либо тогда, когда в этом есть необходимость, а когда ему мешает какая-либо сила делать то, что необходимо для общества и от чего зависит безопасность или сохранение народа, народ вправе устранить эту силу силой же. Во всех положениях и состояниях лучшее средство против силы произвола — это противодействовать ей силой же. Применение силы без полномочий всегда ставит того, кто ее применяет, в состояние войны как агрессора и дает право поступать с ним соответствующим образом.
156. Право созывать и распускать законодательный орган — право, которым обладает исполнительная власть, — не дает исполнительной власти верховенства над законодательной, а является просто доверенным полномочием, данным ей в интересах безопасности народа в том случае, когда неопределенность и переменчивость человеческих дел не могут вынести постоянного установленного правила. Ведь невозможно, чтобы первые создатели государства благодаря какому-либо предвидению в такой степени смогли предугадывать будущие события, чтобы быть в состоянии установить точно определенные периоды созывов и длительности работы законодательных органов во все времена, причем так, чтобы это в точности отвечало всем потребностям государства. Лучшим средством против этого недостатка было доверить это благоразумию тех, кто всегда будет налицо и чьей задачей является следить за общественным благом. Постоянные частые созывы законодательного органа и длительные периоды его заседаний без особой на то необходимости не могут не быть тягостны для народа и с течением времени обязательно создадут более опасные неудобства; и тем не менее стремительный ход событий иногда может потребовать немедленной помощи этого органа, малейшее промедление с егосозывом может подвергнуть народ опасности; иногда же вопросы, рассматриваемые этим органом, могут иметь такое огромное значение, что ограниченное время его заседаний может [354] оказаться слишком коротким для его работы и лишить народ того блага, которое он мог бы получить только благодаря зрелому обсуждению их. Что же в таком случае можно сделать, чтобы сообщество не подвергалось время от времени неизбежному риску с той или с другой стороны, порождаемому раз навсегда фиксированными промежутками и периодами созыва и работы законодательного органа, как не доверить это благоразумию тех, кто, будучи налицо и разбираясь в положении общественных дел, может использовать эту прерогативу на благо общества? И в чьи руки лучше всего это передать, как не в руки тех, кому доверено исполнение законов для той же цели? Таким образом, если назначение времени для созыва и заседаний законодательного органа не установлено первоначальной конституцией, то оно, естественно, переходит в руки исполнительной власти, причем не как деспотической власти, зависящей от собственной прихоти, — эти полномочия всегда должны использоваться только на благо общества, как этого требуют события и изменения в делах. В мою задачу не входит установить, возникает ли меньше неудобств тогда, когда существуют определенные сроки созыва законодательного органа, или тогда, когда это предоставлено на усмотрение государя, или, возможно, тогда, когда имеется смешение того и другого; я хотел только показать, что, хотя исполнительная власть может обладать прерогативой созывать и распускать подобные сессии законодательного органа, она из-за этого все же не является верховной в отношении его.
157. Вещи в этом мире находятся в таком непрерывном изменении, что ничто не остается долго в том же состоянии. Так, народы, богатства, торговля, сила меняют свое местонахождение; могущественные цветущие города превращаются в руины и с течением времени оказываются забытыми пустынными уголками, в то время как другие отдаленные места становятся многолюдными странами, изобилующими богатством и населением. Но вещи не всегда изменяются одинаково, и частные интересы нередко сохраняют обычаи и привилегии, когда оснований для них уже нет; нередко случается, что в государствах, где часть законодательного органа состоит из представителей, избираемых народом, с течением времени это представительство становится крайне неравным и не соответствующим тем основам, на которых оно первоначально было установлено. К каким чудовищным нелепостям приводит следование обычаю, когда смысла в нем уже нет, мы можем ви [355] деть, если обратим внимание на одно лишь название города, от которого не осталось ничего, кроме руин, где почти что нет никаких строений, кроме овчарни, и нет жителей, кроме пастуха, а этот город посылает столько же представителей в великое собрание законодателей, как и целое графство, густонаселенное и обладающее большими богатствами. Чужеземцы этому удивляются, и каждый вынужден признать, что необходимо принять соответствующие меры, хотя большинство считает, что здесь трудно что-нибудь придумать, поскольку конституция законодательного органа является первоначальным и верховным актом общества, предшествуя всем его положительным законам и завися исключительно от народа, и поэтому ни одна низшая власть не может изменить ее. И поэтому народ, после того как однажды учрежден законодательный орган, не имеет при такой системе правления, о которой мы говорили, никакой власти для принятия мер, до тех пор пока эта система правления существует; думают, что против этого неудобства нет никакого средства.
158. Salus populi supreme lex [Благо народа — высший закон] является, несомненно, настолько справедливым и основным законом, что тот, кто искренне ему следует, не может впасть в какое-либо пагубное заблуждение. Следовательно, если исполнительная власть, имеющая право созывать законодательный орган, заботясь больше о правильной пропорции, чем о форме представительства, регулирует не по старому обычаю, а на разумной основе число членов от всех мест, которые имеют право самостоятельного представительства, на что никакая часть народа, как бы она ни была объединена, не может претендовать иначе, как пропорционально к той помощи, которую она оказывает обществу, то в этом случае нельзя считать, что будет создан новый законодательный орган, напротив, будет восстановлен старый и настоящий и исправлены те непорядки, которые возникли с течением времени столь же незаметно, как и неизбежно. Ведь интересы и намерения народа требуют справедливого и равного представительства; тот, кто приближает его к этому, является несомненным другом и установителем правительства и не может не получить согласие и одобрение сообщества. Прерогатива представляет собой не более чем власть в руках государя для заботы об общественном благе в тех случаях, когда в связи с непредвиденными и переменчивыми событиями определенные и неизменяемые законы не могут служить надежным руководством; что бы ни делалось явно для блага народа и для установления власти правительства [356] на его истинных основах — это есть и всегда будет справедливой прерогативой. Право создавать новые объединения и в связи с этим выбирать новых представителей предполагает, что с течением времени нормы представительства могут меняться и справедливое право быть представленными получат те места, которые раньше такого права не имели, и по той же причине те, что имеют право, теряют его и становятся слишком незначительными для той привилегии, которую раньше имели. Не изменение нынешнего положения, возникшего, вероятно, вследствие продажности и разложения, является покушением на правительство, а его стремление нанести ущерб народу или угнетать его и создать какую-либо группу или партию, отличную от всего остального общества и находящуюся по отношению к нему в неравном положении. Все, что не может не быть признано полезным для общества и всего народа и осуществлено посредством справедливых и серьезных мероприятий, всегда, когда это будет сделано, оправдает себя; и если народ изберет своих представителей на основе справедливых и, бесспорно, равных пропорций, соответствующих первоначальной структуре правительства, то нельзя сомневаться, что это явится волей и актом общества независимо от того, кем это было разрешено или кто был тому причиной.
Глава XIV. О прерогативе
159. Где законодательная и исполнительная власть находятся в различных руках (как это имеет место во всех умеренных монархиях и правильно организованных правительствах), там благо общества требует, чтобы некоторые вещи были предоставлены благоразумию того, кто обладает исполнительной властью. Ведь законодатели не в состоянии предвидеть все и создавать соответствующие законы на все случаи, когда это может быть полезно сообществу, и тогда исполнитель законов, имея в своих руках власть, обладает на основе общего закона природы правом использовать ее на благо общества во многих случаях, когда муниципальный закон не даст никаких указаний, до тех пор пока не будет удобно собрать законодательный орган и издать соответствующий закон. Существует много вещей, которых закон никак не может предусмотреть; и их необходимо предоставить благоразумию того, в чьих руках на [357] ходится исполнительная власть, для того чтобы он распоряжался так, как того требуют общественное благо и выгода; более того, в некоторых случаях необходимо, чтобы сами законы уступали место исполнительной власти или, скорее, этому основному закону природы и правления, viz. чтобы, насколько только возможно, были сохранены все члены общества. Ведь может возникнуть целый ряд обстоятельств, когда строгое и неуклонное соблюдение законов может принести вред (как, например, нельзя снести дом невинного человека, чтобы прекратить пожар, когда горит соседний дом), а иногда человек может подпасть под действие закона, который не делает различия между людьми, за поступок, который может заслуживать награды и прощения; надо, чтобы правитель обладал властью во многих случаях умерять строгость закона и прощать некоторых преступников, поскольку целью правительства является сохранение всех по мере возможности, и следует щадить даже виновных, когда это не наносит ущерба невинным.
160. Эта власть действовать сообразно собственному разумению ради общественного блага, не опираясь на предписания закона, а иногда даже вопреки ему, и есть то, что называется прерогативой. Так как в некоторых системах правления законодательная власть не является постоянно действующей н обычно слишком громоздка и поэтому поворачивается слишком медленно, а для исполнения закона необходима быстрота и поскольку также невозможно предвидеть и, таким образом, заранее создать соответствующие законы на все необходимые случаи, которые касаются общества, или создать такие законы, которые не будут причинять вреда, если их исполнять с неукоснительной строгостью во всех случаях и по отношению ко всем лицам, которых это может коснуться, поэтому исполнительной власти предоставляется свобода делать многое по собственному выбору, чего не предусматривает закон.
161. Эта власть, пока она употребляется на благо общества и сообразно с ответственностью и целями правительства, несомненно, является прерогативой и никогда не ставится под вопрос. Ведь люди очень редко или даже никогда не требуют тщательного или неукоснительного соблюдения всех тонкостей; они далеки от того, чтобы исследовать прерогативу, до тех пор пока она в какой-либо приемлемой степени используется для той цели, для которой, она предназначалась, т. е. на благо народа, а не явно во вред ему. Но если в отношениях между исполнительной властью и народом возникает сомнение относительно ве [358] щи, именуемой прерогативой, склонность употреблять такую прерогативу на благо народа или во вред ему легко решает это сомнение.
162. Легко понять, что во времена младенчества правительства, когда государства лишь немногим отличались от семей по количеству людей, они в столь же малой степени отличались от них по количеству законов. И поскольку правители были для народа как бы отцами, опекающими его ради его собственного блага, то правление почти полностью являлось прерогативой. Обходились немногими установленными законами, а благоразумие и забота правителя делали остальное. Но когда ошибка или лесть побудила слабых государей использовать эту власть в их собственных личных целях, а не на общее благо, народ стал стремиться посредством определенных законов ограничить прерогативу в тех ее проявлениях, в каких народ терпел от нее ущерб. И таким образом, народ счел необходимым установить ограничения для прерогативы в тех случаях, в каких сам народ и его предки прежде предоставляли полную свободу решений благоразумию тех государей, которые пользовались данной прерогативой только по справедливости, т. е. на благо своего народа.
163. И следовательно, те, кто утверждает, что народ посягает на прерогативу, когда ограничивает определенными законами какую-либо ее часть, имеют весьма превратное представление о правлении. Ведь поступая подобным образом, народ не отнимает у государя ничего принадлежащего ему по праву, а лишь заявляет, что та власть, которую народ неограниченно оставлял в его руках или в руках его предков, чтобы они употребляли ее на благо народа, становится не тем, что народ ему предоставил, когда государь употребил ее на что-то иное. Ибо целью правления является благо сообщества, и все изменения, которые в нем производятся для этой цели, не могут быть посягательством на кого-либо, поскольку никто из находящихся у власти не может обладать правом, употребляемым для какой-либо иной цели; а посягательством является лишь то, что наносит ущерб или препятствует общественному благу. Те, кто говорят иначе, рассуждают так, как если бы государь обладал отдельными, не имеющими никакого отношения к благу сообщества интересами и не был бы сам для этого создан; а это есть корень и источник происхождения почти всех тех бед и беспорядков, которые имеют место при монархическом правлении. И действительно, если это так, то народ, находящийся под властью такого [359] государя, не является обществом разумных существ, объединившихся ради взаимного блага: значит, не они сами поставили над собой правителей, чтобы охранять это благо и способствовать ему; напротив, на них следует смотреть лишь как на стадо низших существ, находящихся под властью хозяина, который их содержит и распоряжается ими для своего удовольствия или выгоды. Если бы люди были настолько лишены разума и настолько скотоподобны, чтобы вступить в общество на таких условиях, то прерогатива действительно могла бы стать такой, какой ее хотят иметь некоторые, — деспотической властью, направленной на то, чтобы вредить народу.
164. Но поскольку нельзя предположить, чтобы разумное существо, будучи свободным, стало повиноваться другому во вред себе (хотя когда человек находит хорошего и мудрого правителя, то он, возможно, не считает ни необходимым, ни полезным четко ограничивать во всем его власть), постольку прерогатива не может представлять собой что-либо иное, кроме как разрешение со стороны народа его правителям делать некоторые вещи по их собственному свободному выбору, когда закон молчит, а иногда также и поступать вопреки букве закона ради общественного блага; и народ соглашается с этим, когда это сделано. Ведь хороший государь, который помнит об оказанном ему доверии и заботится о благе своего народа, не может обладать слишком большой прерогативой, т. е. слишком большой властью творить добро; слабый же и дурной государь, притязающий на то, что власть, которой его предшественники пользовались без предписания закона, является прерогативой, принадлежащей ему по его сану, которой он может пользоваться по собственному усмотрению, преследуя или осуществляя интерес, отличный от интересов народа, такой государь дает народу повод заявить о своем праве и ограничить ту власть, которую народ, пока она осуществлялась на благо ему, молчаливо допускал.
165. Вот почему тот, кто заглянет в историю Англии, увидит, что самая большая прерогатива всегда была в руках наших самых мудрых и самых лучших государей, ибо народ, наблюдая, что в целом их действия были направлены на общее благо, не оспаривал того, что совершалось вне закона ради этой цели или если какая-либо человеческая слабость или ошибка (ведь государи всего лишь люди, созданные подобно другим) проявлялась в некоторых небольших отклонениях от этой цели, но все же было видно, что в основном их поведение диктовалось только лишь за [360] ботой о народе. Вот почему народ, имея основание быть довольным этими государями, в тех случаях, когда они поступали не по закону или вопреки букве закона, соглашался с содеянным и без малейшей жалобы давал им возможность увеличивать сколько угодно свою прерогативу, справедливо считая, что они этим не наносили ущерба законам, поскольку они поступали в соответствии с основой и целью всех законов — общественным благом.
166. Такие богоподобные государи действительно имели некоторое право на деспотическую власть, если пользоваться аргументом, который доказывает, что абсолютная монархия является лучшим правлением в мире, поскольку сам господь бог подобным образом управляет вселенной; ведь такие короли были наделены частью его мудрости и благости, на этом основана пословица: «Правление хороших государей всегда было наиболее опасным для свобод их народа», поскольку их преемники, распоряжаясь властью с иными мыслями, возводили действия этих хороших правителей в прецедент и считали их мерилом своей прерогативы, как если бы то, что делалось исключительно на благо народа, давало им право причинять вред народу, когда им заблагорассудится. Это часто вызывало споры, а иногда и общественные беспорядки, прежде чем народ мог вернуть себе свое первоначальное право и добивался того, чтобы прерогативой не объявлялось то, что ею в действительности никогда не было, поскольку невозможно, чтобы кто-либо в обществе когда-либо имел право причинять вред народу, хотя весьма возможно и здраво, чтобы народ не стремился установить границы прерогативы тех королей или правителей, которые сами не преступали границ общественного блага. Ибо прерогатива является не чем иным, как правом творить общественное благо без закона.
107. Право созыва парламента в Англии в том, что касается времени, места и срока, является, несомненно, прерогативой короля, но при том условии, что она будет использована на благо нации, как этого потребуют время и обстоятельства. Ведь невозможно предусмотреть, в каком месте парламенту будет лучше всего собраться и в какое время, а поэтому выбор здесь предоставляется исполнительной власти, чтобы наилучшим образом содействовать общественному благу и соответствовать целям парламента.
168. В том, что касается прерогативы, будет задаваться старый вопрос: «Но кто будет судьей, определяющим правильность применения этой власти?» Я отвечаю: между [361] действующей исполнительной властью, обладающей подобной прерогативой, и законодательным органом, зависящим от нее в отношении созыва, на земле не может быть судьи; точно так же, как не может быть судьи между законодательной властью и народом, если исполнительный либо законодательный орган, получив власть в свои руки, умыслит поработить или уничтожить народ или станет осуществлять это. Против этого у народа нет никаких средств, как и во всех других случаях, где для него нет судьи на земле, кроме как обращения к небесам. Ведь правители, пытаясь совершить это, используют власть, которую народ никогда не передавал в их руки (нельзя же предположить, чтобы народ согласился на то, чтобы кто-либо управлял во вред ему), и, следовательно, делают то, на что они не имеют права. А в тех случаях, когда группа людей или какой-либо отдельный человек лишаются своего права или находятся под давлением власти без права и им некуда обратиться на земле, тогда они вольны воззвать к небесам, если они считают повод достаточно серьезным. И следовательно, хотя народ не может быть судьей, обладающим по конституции этого общества высшей властью для определения и вынесения действенного приговора в этом случае, все же он сохраняет по закону, предшествующему и превосходящему все положительные законы людей, то окончательное определение, которым обладает все человечество в тех случаях, когда не к кому обратиться на земле, viz. правом судить о том, имеется ли у него достаточный повод воззвать к небесам. И лишиться этого суждения народ не может, поскольку свыше человеческих сил в такой степени покориться другому, чтобы дать ему свободу уничтожить себя; бог и природа никогда не разрешали человеку забываться в такой степени, чтобы пренебрегать самосохранением, и поскольку он не может сам лишить себя жизни, то он не может дать такое право и другому. Пусть никто не думает, что тем самым дается основа для вечных беспорядков: ведь это не вступает в силу, пока неудобство не становится столь велико, что большинство его ощущает и тяготится им и тогда оно считает необходимым исправить это положение. Но исполнительной власти или мудрым государям никогда не нужно допускать этой опасности, и именно ее они больше всего должны избегать, и она больше всех других является самой гибельной.
[362] Глава XV. Об отцовской, политической и деспотической власти, рассматриваемых совместно
169. Хотя я имел уже случай говорить о них порознь, но поскольку величайшие ошибки недавнего прошлого относительно правления возникли, как я полагаю, благодаря смешению этих различных видов власти друг с другом, то, возможно, будет нелишним рассмотреть их здесь совместно.
170. Итак, во-первых, отцовская или родительская власть есть не что иное, как та власть, которую родители имеют над своими детьми, управляя ими ради их же блага, пока они не научатся пользоваться своим разумом или не достигнут такой степени познания, когда можно будет предположить, что они в состоянии понимать тот закон, будь то закон природы или муниципальный закон их родины, которым они должны руководствоваться, — в состоянии, говорю я, познать его, подобно другим людям, живущим как свободные люди под сенью этого закона. Привязанность и нежность к своим детям, которые бог вселил в сердца родителей, делают очевидным, что это правление не должно быть суровым и деспотичным, но должно быть направлено только на помощь, обучение и сохранение их потомства. Но как бы то ни было, как я уже доказал, нет никаких оснований, по которым можно было бы считать, что оно распространяется в какое-то время на решение вопроса о жизни и смерти детей в большей степени, чем это имеет место по отношению к кому-либо другому; точно так же нет никакого повода для того, чтобы эта родительская власть держала ребенка, когда он уже стал взрослым, в подчинении воле родителей, за исключением того, что раз он получил жизнь и образование от своих родителей, то обязан проявлять уважение, почтение, благодарность, оказывать помощь и поддержку всю свою жизнь как отцу, так и матери. И таким образом, верно, что родительское правление является естественным правлением, но оно ничуть не распространяется на цели и юрисдикцию правления политического. Власть отца совершенно не распространяется на собственность детей, которой могут распоряжаться только они сами.
171. Во-вторых, политическая власть — это та власть, которую каждый человек, обладая ею в естественном состоянии, передал в руки общества и тем самым правителям, [363] которых общество поставило над собой с выраженным или молчаливым доверием, что эта власть будет употреблена на благо членов общества и на сохранение их собственности. Следовательно, эта власть, которой обладает каждый человек в естественном состоянии и которую он уступает обществу во всех тех случаях, когда общество может охранять его, должна применять такие средства для сохранения его собственности, которые он считает хорошими и которые допускает природа, а также наказывать нарушение закона природы другими так, чтобы (настолько, насколько он может об этом судить) это могло бы содействовать сохранению его и остального человечества. Таким образом, цель и мерило этой власти, когда она находится в руках каждого человека в естественном состоянии, заключается в сохранении всех принадлежащих к его обществу, т. е. всего человечества в целом, в силу чего эта власть, находясь в руках должностного лица, не может иметь иной цели и иного мерила, как сохранять членов этого общества, а значит, сохранять их жизнь, свободы и имущество. И следовательно, эта власть не может быть деспотической и абсолютной, распространяющейся на их жизнь и богатства, которые, насколько возможно, должны сохраняться; напротив, это должна быть власть, которая создавала бы законы и предусматривала бы за их нарушение такие наказания, которые способствовали бы сохранению целого, отсекая такие части, и только такие, которые настолько уже испорчены, что угрожают целому и здоровому, без чего никакая суровость не является законной. И эта власть проистекает лишь из договора и соглашения и из взаимного согласия тех, кто составляет сообщество.
172. В-третьих, деспотическая власть — это абсолютная, неограниченная власть, которой обладает один человек над другим, имея возможность лишить его жизни, когда ему заблагорассудится. Это такая власть, которой не дает природа, так как она не провела такого различия между одним человеком и другим; ее не может предоставить и договор: поскольку человек не обладает подобной неограниченной властью над своей собственной жизнью, постольку он не может дать и другому человеку такую над ней власть; эта власть является лишь следствием угрозы утраты своей собственной жизни, которой подвергает себя агрессор, когда ставит себя в состояние войны с другим. Ведь он расстается с разумом, который дал господь, чтобы он был законом между человеком и человеком и общей связью, посредством которой человеческий род объединен [364] в одно товарищество и общество; и, отрешившись от мирного образа жизни, которому разум учит, и приме нив военную силу, чтобы навязать свои несправедливые притязания другому, когда у него нет на то права, и, таким образом, отрешившись от своего собственного рода и опустившись до уровня животных, делая силу, которая им свойственна, своим законом и правом, он сам ставит себя в такое положение, когда пострадавший и остальная часть человечества, которая присоединится к последнему для осуществления правосудия, вправе уничтожить его как любого другого дикого зверя или любое вредное животное, которые не дают возможность человечеству жить в обществе и пользоваться безопасностью. И таким образом, пленные, взятые в справедливой и законной войне, и только в такой,подчиняются деспотической власти; а эта власть, так как она вытекает не из договора и не допускает его вообще, представляет собой лишь продолжение состояния войны. Какой договор можно заключить с человеком, который не может распоряжаться собственной жизнью? Какое условие он может исполнить? А если ему хоть однажды разрешить распорядиться собственной жизнью, то деспотическая и неограниченная власть его господина прекращается. Тот, кто является господином над самим собой и над своей жизнью, обладает также правом на средства ее сохранения; таким образом, как только заключается договор, рабство прекращается, и тот, кто вступает в договорные отношения со своим пленником, тем самым отказывается от своей абсолютной власти и прекращает состояние войны.
173. Природа предоставляет первый из этих видов власти, viz. отцовскую власть, родителям для блага их детей во время их младенчества, чтобы возместить недостаток у них понимания и способности распоряжаться своей собственностью (под собственностью я, как и в других местах, подразумеваю здесь ту собственность, которой люди обладают на самих себя, равно как и на свое имущество). Добровольное соглашение дает второй вид власти, viz. политическую власть правителя на благо их подданных, дабы обеспечить им владение и пользование их собственностью. И угроза расплаты собственной жизнью дает третий вид власти, деспотическую власть господам, ради их собственного блага, над теми, кто лишен всякой собственности.
174. Тот, кто рассмотрит различное происхождение и размеры и разные цели этих видов власти, ясно увидит, [365] что отцовская власть настолько же меньше власти должностного лица, насколько деспотическая власть ее превосходит, и что абсолютная власть, у кого бы она ни находилась, весьма далека от того, чтобы быть видом гражданского общества; она настолько же несовместима с ним, как рабство с собственностью. Отцовская власть существует только там, где младенчество делает ребенка неспособным распоряжаться своей собственностью; политическая — там, где люди имеют в своем распоряжении собственность: а деспотическая — распространяется на тех, кто совершенно не имеет никакой собственности.
Глава XVI. О завоевании
175. Хотя правительства первоначально не могли возникнуть иначе, чем так, как это описывалось выше, равно как и государства не могли быть основаны на чем-либо ином, кроме согласия народа, но все же беспорядки, которыми честолюбие наполнило мир, были таковы, что в шуме войны, которая составляет столь значительную часть истории человечества, на это согласие мало обращается внимания. Вот почему многие ошибочно принимали силу оружия за согласие народов и считали завоевание одной из первопричин возникновения правления. Но завоевание столь же далеко от установления какого-либо правления, как разрушение дома — от постройки нового на том же месте. Действительно, дорога новому государственному строю часто открывается благодаря уничтожению прежнего; но без согласия народа никогда нельзя создать новый строй.
176. То, что агрессор, ставящий себя в состояние войны с другим и несправедливо посягающий на права другого человека, никогда не может получить благодаря подобной несправедливой войне право над покоренным, легко будет признано всеми людьми, которые не сочтут, что разбойники и пираты обладают правом власти над всеми теми, кого им удалось одолеть силой, или что люди связаны обещаниями, исторгнутыми у них беззаконным применением силы. Если разбойник вломится в мой дом и, приставив мне к горлу кинжал, заставит меня приложить печать к обязательству передать ему мое имение, то разве это дает ему какое-либо право? Точно таким же правом, добытым с помощью меча, обладает и несправедливый завоеватель, [366] который принуждает меня к подчинению.
Несправедливость и преступление — одно и то же, независимо от того, совершены ли они венценосцем или мелким негодяем. Титул преступника и количество его приспешников не меняют характера преступления, разве что отягощают его. Разница только в том, что крупные разбойники наказывают мелких, чтобы держать их в повиновении, а крупных награждают лаврами и триумфами, так как они слишком сильны для слабых рук правосудия в этом мире и сами обладают властью, которая должна наказывать преступников. Что я могу предпринять против разбойника, вломившегося подобным образом в мой дом? Воззвать к закону для осуществления правосудия. Но возможно, что в правосудии мне отказано, или я калека и не могу пошевельнуться, или я ограблен и не имею средств для этого. Если господь лишил меня всех средств, с помощью которых можно восстановить справедливость, то мне ничего не остается, кроме терпения. Однако мой сын, когда будет в состоянии, сможет искать поддержки закона, которой лишен я; он или его сын может возобновить свое прошение, пока он не восстановит свое право. Но покоренные или их дети не имеют ни суда, ни судьи, к которым они могли бы обратиться на земле. Тогда они могут воззвать, как это сделал Иеффай, к небесам и повторять свое обращение до тех пор, пока они вновь не получат природное право своих предков, которое заключалось в том, что они могли иметь над собой такой законодательный орган, который бы большинство одобрило и свободно признало. Если на это будут возражать, что это вызовет бесконечные беспорядки, то я отвечу: не в большей степени, чем правосудие, когда оно доступно всем, кто к нему взывает. Тот, кто докучает без причины своему соседу, наказывается за это решением суда, к которому он обращается. Тот же, кто обращается к небесам, должен быть уверен, что право на его стороне, и притом такое право, которое стоит труда и издержек, связанных с этим обращением; ведь ему придется отвечать перед таким трибуналом, который невозможно обмануть и который, несомненно, воздаст каждому соразмерно тому злу, которое он причинил своим собратьям по подданству, т. е. любой части человечества. Отсюда совершенно очевидно, что тот, кто побеждает в несправедливой войне, не может благодаря этому приобрести право на покорность и повиновение побежденного.
177. Но предположим, что победа будет сопутствовать правой стороне, и рассмотрим положение победителя [367] в законной войне, чтобы узнать, какую власть он получает и над кем.
Bo-первых, совершенно очевидно, что в результате завоевания он не получает власти над теми, кто воевал вместе с ним. Те, кто сражался на его стороне, не могут нести ущерб в результате завоевания, но должны по крайней мере быть в такой же степени свободными людьми, как и раньше. Чаще всего они служат на определенных условиях, причем подразумевается, что они должны будут вместе со своим предводителем участвовать в дележе добычи и что на их долю выпадут различные другие преимущества, которые сопутствуют победоносному мечу, или что они по крайней мере получат какую-либо часть завоеванной страны. И народ-завоеватель не станет, я надеюсь, из-за завоевания рабом и не будет носить свои лавры лишь для того, чтобы показать, что им, народом, пожертвовали ради триумфа его предводителя. Те, кто основывает абсолютную монархию на праве меча, превращают своих героев, являющихся основателями таких монархий, в отъявленных убийц и забывают, что еще и другие офицеры и солдаты сражались на их стороне в выигранных ими битвах, или помогали им покорить побежденных, или же совместно с ними владели завоеванными странами. Некоторые говорят нам, что английская монархия была основана во время норманнского завоевания и что поэтому наши государи имеют право на абсолютную власть. Если бы это было верно {поскольку из истории это представляется иначе) и Вильгельм имел право вести войну на этом острове, то все же его власть, основанная на завоевании, могла простираться лишь на саксов и бриттов, которые являлись тогда обитателями этой страны. Норманны, пришедшие вместе с ним и помогавшие ему в завоевании, и все их потомки являются свободными людьми, а не подданными в результате завоевания, какую бы власть ни давало это завоевание. И если я или кто-либо другой станем претендовать на свободу на основании того, что мы являемся их потомками, то доказать противное будет весьма трудно; и совершенно очевидно, что закон, который не делает никакого различия между одним и другим, не предусматривает какой-либо разницы между свободой и привилегиями того и другого.
178. Но предположим, хотя это бывает и редко, что победители и побежденные так и не сливаются в один народ, обладающий одними и теми же законами и свободой. Рассмотрим теперь, какой властью законный завоеватель [368] обладает над покоренными; эта власть, как я говорил, является чисто деспотической. Он обладает абсолютной властью над жизнями тех, кто, начав несправедливую войну, поставил свою жизнь под угрозу, но не над жизнями или состоянием тех, кто не участвовал в войне, равно как и не над собственностью даже тех, кто на самом деле участвовал в ней.
179. Во-вторых, я утверждаю, что победитель не получает никакой иной власти, кроме как над теми, кто действительно помогал, участвовал или одобрял несправедливое применение силы против него. Так как народ не давал своим правителям полномочий творить беззаконие, каким является ведение несправедливой войны (ведь народ никогда сам не обладал такими полномочиями), то его нельзя считать виновным в насилии и несправедливости, совершенных в несправедливой воине, в большей мере, чем он действительно в этом участвовал, равно как нельзя считать народ виновным в каком-либо насилии или угнетении, которое его правители употребляли в отношении самого же народа или какой-либо части его собратьев по подданству, ведь народ в равной степени не уполномочивал их ни на то, ни на другое. Правда, победители редко утруждают себя подобными различиями, они охотно допускают, чтобы смятение, вызванное войной, перемешало все; однако это еще не меняет права. Ведь власть победителя над жизнью побежденных существует лишь потому, что последние применили силу, чтобы совершить или поддержать несправедливость, и поэтому он может обладать такой властью лишь над теми, кто участвовал в этом применении силы; все остальные невинны; и он обладает не большим правом на власть над народом данной страны, который не причинил ему никакого вреда и, таким образом, не ставил под угрозу свою жизнь, чем над кем-либо другим, кто без всяких посягательств и провокаций жил совместно с ним в дружеских отношениях.
180. В-третьих, власть, которую победитель получает над побежденными в справедливой войне, является полностью деспотической: он обладает абсолютной властью над жизнями тех, кто, поставив себя в состояние войны, ставил свою жизнь под угрозу, но этим он не приобретает права и власти над их имуществом. Я не сомневаюсь, что это может показаться с первого взгляда странной доктриной, поскольку она совершенно расходится с тем, что принято в этом мире; нет ничего более обычного, чем, говоря о владении странами, сказать, что такая-то страна ее завоевала, [369] как если бы завоевание без всяких других хлопот давало право на владение. Но мы должны учесть, что, как свидетельствует опыт всех времен и народов, сильные и могучие редко руководствуются правом при осуществлении своего правления, хотя одним из проявлений покорности со стороны побежденных является принятие без спора тех условий, которые начертаны победоносным мечом.
181. Хотя для всех войн обычно сочетание насилия и ущерба и редко случается так, что агрессор не причиняет вреда имуществу, применяя силу в отношении тех лиц, против которых он ведет войну, все же только применение силы ставит человека в состояние войны. Независимо от того, наносит ли он ущерб с помощью силы или же, нанеся ущерб потихоньку, путем обмана, отказывается возместить за содеянное и с помощью силы удерживает захваченное (это то же, как если бы с самого начала сделать это с помощью силы), именно несправедливое применение силы создает войну. Ибо тот, кто вламывается в мой дом и вышвыривает меня за дверь или, пробравшись туда мирным путем, силой держит меня снаружи, фактически делает одно и то же. Предположим, что мы находимся в таком состоянии, когда не имеем общего судьи на земле, к которому я бы мог обратиться и которому мы оба обязаны были бы подчиниться; как раз о таком случае я сейчас говорю. Именно несправедливое применение силы ставит человека в состояние войны с другим, и тем самым тот, кто в этом виновен, ставит под угрозу свою жизнь. Ведь, распростившись с разумом, который является законом, установленным между человеком и человеком, и применяя силу, подобно зверям, он подлежит уничтожению со стороны того, против кого он применяет силу, как любой хищный зверь, опасный для существования человека.
182. Однако неправильные действия отца не являются проступками детей, и последние могут быть существами разумными и мирными, несмотря на скотство и несправедливость отца; отец благодаря своим прегрешениям и насилиям может ставить под угрозу лишь свою собственную жизнь, не вовлекая, однако, своих детей в свой грех или разорение. Его имущество, которое природа, желающая сохранить все человечество, насколько это возможно, сделала собственностью детей, дабы не допустить их гибели, все еще продолжает принадлежать его детям. Предположим, что они не участвовали в войне либо по причине младенчества, отсутствия, либо по собственному желанию и они не совершили ничего, что ставило бы под [369] угрозу их имущество; и завоеватель не имеет никакого права отнимать его у них лишь на том основании, что он покорил того, кто силой хотел добиться его гибели; хотя, возможно, он и обладает некоторым правом на это имущество, чтобы возместить ущерб, нанесенный ему войной и защитой своего права; насколько это распространяется на имущество покоренных, мы еще увидим в дальнейшем. Таким образом, тот, кто благодаря завоеванию имеет право на личность человека и может уничтожить его, если ему заблагорассудится, не имеет вместе с тем права на владение и пользование его имуществом. Ведь именно грубая сила, к которой прибегнул агрессор, дает право его противнику лишить его жизни и уничтожить его, если ему заблагорассудится, как вредное животное. Но лишь понесенный ущерб дает ему право на имущество другого человека: ведь хотя я могу убить разбойника, напавшего на меня на большой дороге, я все же не могу (хотя это и кажется меньшим) отобрать у него деньги и отпустить его; это было бы грабежом с моей стороны. Его сила и состояние войны, в которое он себя поставил, побудили его рисковать жизнью, но это не дает мне права на его имущество. Таким образом, право завоевания простирается лишь на жизнь тех, кто участвовал в войне, ноне на их имущество, которое может быть использовано лишь в такой мере, чтобы возместить понесенный ущерб и военные издержки; причем и тогда необходимо охранять права невинных жен и детей.
183. Предположим, что справедливость полностью на стороне победителя, и все же он не имеет права захватывать больше, чем то, что мог поставить на карту побежденный; его жизнь зависит от милости победителя, и его услуги и имущество последний может использовать для возмещения понесенного ущерба; но победитель не может взять имущество жены и детей побежденного; они также имеют право на имущество, которым он пользовался, и свою долю в имении, которым он владел. Например, я, находясь в естественном состоянии (а все государства находятся в естественном состоянии по отношению друг к другу), нанес ущерб другому человеку и отказался дать удовлетворение; это порождает состояние войны, в которой я силой защищаю несправедливо добытое, что делает меня агрессором. Я побежден; моя жизнь, и это справедливо, как поставленная на карту, зависит от милости победителя, но не жизнь моей жены и детей. Они не вели войны и не способствовали ей. Я не мог поставить на карту их [371] жизни, ведь они не принадлежали мне, и я не мог ими распоряжаться. Моя жена имеет право на долги моего имения; эту долю я также не мог поставить на карту. Также и мои дети, родившиеся от меня, имеют право на то, чтобы я содержал их своим трудом или пособием. Таким образом, здесь мы имеем следующее положение: победитель имеет право на возмещение понесенного ущерба, а дети имеют право на имение отца для своего пропитания; что же касается доли жены, то независимо от того, имеет ли она право на все благодаря своему труду или договору, совершенно очевидно, что муж не мог поставить на карту то, что принадлежит ей. Как следует поступить в подобном случае? Я отвечаю: основной закон природы состоит в том, что все, что только можно, должно быть сохранено; отсюда вытекает, что если не имеется достаточно имущества, чтобы полностью удовлетворить обе стороны, viz. потери победителя и потребности детей, то тот, кто и так обладает достатком, должен отказаться от чего-либо, хотя бы он при этом и не получал полного удовлетворения, и уступить неотложному и первоочередному праву тех, кому без этого угрожает гибель.
184. Но предположим, что издержки и ущерб войны должны быть компенсированы победителю до последнего фартинга и что дети побежденного, лишившись всего имущества своего отца, должны быть обречены на голодную смерть; и все же удовлетворение, которое в данном случае должен получить победитель, вряд ли даст ему права на какую-либо страну, которую он завоюет. Ведь ущерб, понесенный от войны, вряд ли будет равным стоимости значительного участка земли в любой части света, где вся земля находится в чьем-либо владении и где нет невозделанной земли. А если я не отнял землю победителя, что совершенно невозможно, поскольку я являюсь побежденной стороной, то едва ли какой-либо иной причиненный мной ущерб может сравняться с ценностью моей земли, если предположить, что она так же хорошо обработана и по своим размерам приближается к той его земле, где прошли мои войска. Уничтожение годового или же двухгодичного продукта является почти максимальным ущербом, который обычно можно нанести (так как он редко достигает размеров продукта четырех или пяти лет). Что же касается денег и им подобных богатств и сокровищ, отнятых у побежденного, то они не относятся к дарам природы, они обладают лишь фантастической, воображаемой стоимостью: природа не снабдила их ничем подобным; по ее [372] мерилу они обладают не большей ценностью, чем вампомпеке американцев для европейского государя или серебряные европейские деньги в прежние времена для американца. А продукт за 5 лет не равен по своей ценности вечному наследственному владению землей в тех местах, где вся земля находится в чьем-либо владении и не остается невозделанных участков, которые мог бы занять тот, чьи права на владение недвижимостью были нарушены. Это легко понять: ведь если устранить воображаемую стоимость денег, то диспропорция между величиной ущерба и стоимостью земли будет больше, нежели между пятью и пятьюстами; хотя в то же время продукт полугода стоит дороже наследственного владения там, где земли больше, чем находится ее во владении жителей и чем они используют, причем каждый имеет право использовать невозделанную землю; но там победители не стараются завладеть землями побежденных. Таким образом, никакой ущерб, который люди в естественном состоянии (а все государи и правительства но отношению друг к другу таковы) терпят друг от друга, не дает победителю власти лишить собственности потомство побежденного и отнять у них то наследство, которое должно находиться во владении их самих и их потомков во всех поколениях. Победитель действительно будет склонен считать себя господином, а само положение покоренных не даст им возможности отстаивать свое право. Но если это все и так, это не дает еще никакого иного права, чем то, которое голая сила дает сильнейшему над слабейшим. А на таком основании более сильный будет иметь право на все, что ему заблагорассудится захватить.
185. Над теми же, кто стал на его сторону в войне, а также над теми жителями покоренной страны, которые не оказывали ему сопротивления, и даже над потомством тех, кто оказывал ему сопротивление, победитель, даже в справедливой войне, на основании своего завоевания не имеет права повелевать. Они свободны от какого-либо подчинения ему, и если их прежнее правительство распущено, то они вольны создать себе новое.
186. Верно, что победитель обычно силою принуждает их, приставив меч к их груди, пойти на его условия и подчиниться такому правительству, которое ему заблагорассудится им дать; но вопрос заключается в том, какое право имеет он так поступать? Если будет сказано, что они подчиняются по собственному согласию, то тогда подразумевается, что их согласие необходимо для того, чтобы дать [373] победителю право управлять ими. Остается только поразмыслить над тем, в какой мере обещания, исторгнутые силой без права, можно считать согласием и насколько они обязывают. На это я скажу, что они совершенно не обязывают, потому что если другой получает что-либо от меня силой, то право по-прежнему сохраняется за мной, и он обязан возместить мне это в ближайшее время. Тот, кто силой отнимает у меня лошадь, должен вернуть ее в ближайшее время, и я по-прежнему сохраняю за собой право взять ее обратно. По той же причине тот, кто силой вынуждает у меня обещание, должен в ближайшее же время дать мне возмещение, т. e. освободить меня от этого обязательства, или я сам возьму его обратно, т. e. решу, буду ли я его выполнять. Ведь закон природы, накладывая на меня обязательство только по тем правилам, которые предписывает природа, не может обязать меня нарушить ее правила; а исторгнуть у меня что-либо силой и будет означать именно это. Не меняет дела, если сказать: «Я даю обещание»; это не в большей мере извиняет силу и обходит право, чем в том случае, когда я опускаю руку в свой карман и сам даю свой кошелек грабителю, который требует его, приставив к моей груди пистолет.
187. Из всего этого вытекает, что правление, силой навязанное победителем покоренным, вести войну с которыми он не имел права, или тем, кто не участвовал в войне против него, когда он был прав, не накладывает на них никаких обязательств.
188. Но предположим, что все в этом сообществе, будучи членами одного и того же политического организма, совместно участвовали в несправедливой войне, в которой они были побеждены, и, следовательно, их жизнь зависит от милости победителя.
189. Я утверждаю, что это не касается их детей, находящихся в младенческом возрасте. Ведь поскольку отец сам не имеет права распоряжаться жизнью и свободой своего ребенка, постольку ни одно из его действий, очевидно, не может ставить их под угрозу. Таким образом, дети, что бы ни случилось с их отцами, являются свободными людьми, и абсолютная власть победителя распространяется лишь на личность тех людей, которые были им побеждены, и заканчивается вместе с их смертью; и даже если он будет распоряжаться ими как рабами, находящимися в его абсолютной деспотической власти, онне имеет такого права владычества над их детьми. Власть над ними он может иметь только с их собственного согласия, что бы [374] он ни заставлял их говорить или делать; и у него нет законного нрава до тех пор, пока сила, а не выбор принуждает их к покорности.
190. Каждый человек рождается с двойным правом: во-первых, с правом свободы личности, над которой ни один другой человек не имеет власти и свободно распоряжаться которой может только он сам; во-вторых, с правом, преимущественным перед любым другим человеком, наследовать вместе с братьями имущество своего отца.
191. По первому из них человек по природе свободен от подчинения какому-либо правительству, хотя бы он и родился в месте, находящемся под его юрисдикцией. Но если он отказывается подчиняться законному правительству страны, в которой он родился, то должен также отказаться от права, принадлежащего ему по законам этого правительства, и от имущества, которое перешло к нему там от его предков, если это было правительство, созданное с их согласия.
192. По второму жители любой страны, которые происходят от тех, кто был покорен, и по наследству обладают правом на их имущество, и имеют правительство, навязанное им вопреки их свободному согласию, сохраняют право на владения своих предков, хотя они не соглашаются добровольно на правление, жестокие условия которого были силой навязаны хозяевам этой страны. Так как первый завоеватель никогда не имел права на землю этой страны, то люди, являющиеся потомками или претендующими на то, что они являются потомками тех, кого силой принудили покориться ярму насильно навязанного правительства, всегда имеют право сбросить его и освободиться от узурпации или тирании, которые принес им меч, пока их правители не создадут для них такой государственный строй, на который они охотно и по собственному выбору согласятся. Кто может сомневаться в том, что греческие христиане, потомки древних владельцев этой страны, могут по праву сбросить турецкое иго, под которым они так долго стонут, как только у них для этого появится сила? Ведь ни одно правительство не имеет права на повиновение со стороны народа, который не согласился на это добровольно; а этого народ, очевидно, никогда не сможет сделать, если только он не будет находиться в состоянии полной свободы выбора своего правительства и правителей или по крайней мере до тех пор, пока этот народ не обладает такими устойчивыми законами, на которые он сам или его представители дали свое добровольное согласие, [375] а также до тех пор, пока народу не будет позволено владеть принадлежащей ему собственностью, а это означает, что народ будет являться собственником того, что он имеет, что никто не может взять какую-либо часть этого, не получив согласия самого народа, без чего люди при любом правлении не находятся в положении свободных людей, а являются настоящими рабами, подчиняющимися военной силе.
193. Но даже допуская, что победитель в справедливой войне имеет право на владения побежденных, равно как и право распоряжаться их жизнью — а этим, совершенно очевидно, он не обладает, — то отсюда еще не следует что-либо напоминающее абсолютную власть при продолжении правления. Потому что потомки побежденных будут все свободными людьми, если победитель наделит их имениями и собственностью, чтобы они жили в его стране (без этого она не будет ничего стоить); и что бы он ни предоставил им, они обладают этим, поскольку это им предоставлено, как собственностью; что означает, что без собственного согласия человека это не может быть у него взято.
194. Их личность свободна по прирожденному праву, а их собственность, будь она больше или меньше, принадлежит им и находится в их собственном распоряжении, а не в его; в противном случае это не собственность. Предположим, что победитель дает одному человеку тысячу акров, ему и его потомкам навечно; другому же он сдает в аренду тысячу акров пожизненно, из расчета арендной платы в 50 фунтов стерлингов или в 500 фунтов стерлингов в год. Разве не обладает один из них правом на свою тысячу акров навечно, а другой — в течение своей жизни при уплате указанной арендной платы? И разве не обладает пожизненный арендатор собственностью на все, что он получает сверх своей арендной платы благодаря своему труду и прилежанию во время указанного срока, если, положим, это вдвое превысит арендную плату? Разве может кто-либо сказать, что король или завоеватель после своего пожалования может по праву победителя отнять всю землю или часть ее у наследников того или другого при его жизни, если тот платит арендную плату? Или разве он может отнять у каждого из них по своей прихоти имущество или деньги, которые они получили с этой земли? Если он может это сделать, то тогда прекращаются и аннулируются все свободные и добровольные договоры в мире; тогда ничего не требуется для того, чтобы расторгнуть их в любое время, кроме достаточной силы; и все пожалования и обе [375] щания стоящих у власти являются лишь насмешкой и обманом. Разве может быть что-либо более смехотворное, чем сказать: «Я даю это вам и вашим детям навсегда», и притом сказать это самым определенным и торжественным образом, какой только можно придумать, и вместе с тем понимать это так, что я имею право, если мне заблагорассудится, завтра отнять это у вас?
195. Я не буду обсуждать сейчас, не освобождены ли государи от выполнения законов своей страны; но вот в чем я уверен — они обязаны подчиняться законам бога и природы. Никто, никакая власть не могут освободить их от обязательств, накладываемых этим вечным законом. Они столь велики и столь сильны, что в случае обещаний ими может быть связано само всемогущество. Пожалования, обещания и клятвы — это те узы, которые связывают всемогущего, что бы ни говорили некоторые льстецы князьям мира, которые все вместе, со всеми своими народами впридачу, являются в сравнении с великим богом лишь каплей в море или пылинкой на весах, незначительным ничтожеством!
196. Вкратце положение дел в случае завоевания можно изложить следующим образом: победитель, если справедливость на его стороне, обладает деспотическим правом над личностями всех, кто фактически помогал вести войну против него и участвовал в ней, и имеет право на возмещение понесенного им ущерба и издержек за счет их труда и имений, не ущемляя права кого-либо другого. Над остальной частью народа, если там были люди, которые не соглашались на войну, а также над детьми самих пленников, равно как и над владениями тех и других, он не имеет никакой власти; и таким образом,завоевание не дает ему самому законного права владычества над ними или передачи его своему потомству; напротив, он является агрессором, если .посягает на их имущество и тем самым ставит себя в состояние войны с ними; и ни он сам, ни кто-либо из его преемников не имеет больше права на властвование, чем датчане Хингар или Хубба имели здесь, в Англии, или имел бы Спартак, если бы он покорил Италию; а это значит, что они могут сбросить свое ярмо, как только бог даст мужество и возможность к этому тем, кто находится в покоренном состоянии. Какое бы право ассирийские цари ни имели на Иудею благодаря мечу, бог помог Езокии сбросить власть этой захватнической империи. «И был Господь с ним: везде, куда он ни ходил, поступал он благоразумно. И отложился он от царя Ассирийского, и не стал служить [377] ему» (4 Цар. 18, 7). Отсюда совершенно очевидно, что сбросить власть, которая установлена над кем-либо не правом, а силой, хотя бы это и называлось мятежом, не является все же преступлением перед лицом господа, но это именно то, что он разрешает и одобряет, даже если бы этому препятствовали обещания и договоры, исторгнутые силой; ведь весьма вероятно для всякого, кто внимательно читал рассказ об Ахазе и Езекии, что ассирийцы покорили Ахаза и низложили его и сделали Езекию царем при жизни его отца и что Езекия по соглашению оказывал ему почтение и платил ему дань все это время.
Глава XVII. Об узурпации
197. Поскольку завоевание можно назвать иноземной узурпацией, то узурпация является своего рода домашним завоеванием с той разницей, что узурпатор никогда не может иметь право на своей стороне, ибо узурпация может быть только тогда, когда кто-либо овладевает тем, на что имеет право другой. Если это только узурпация, то она представляет собой лишь смену лиц, а не форм и установлений правления: ведь если узурпатор распространяет свою власть за пределы того, что по праву принадлежало законным князьям или правителям государства, то это является тиранией, а не просто узурпацией.
198. Во всех законных правительствах назначение лиц, которые должны осуществлять правление, является столь же естественной и необходимой их частью, как и сама форма правления, и это то, что первоначально было установлено народом. Вот почему все государства с установившейся формой правления имеют также законы, согласно которым назначаются те, кто в какой-либо мере будет участвовать в органах власти, и установленные методы передачи им права. Для анархии подобает скорее не иметь вообще никакой формы правления или же согласиться на то, что она будет монархической, однако она не указывает пути, как узнать или назначить то лицо, которое станет обладать властью и будет монархом. Тот, кто приобретает хоть какую-то долю власти иными путями, чем те, которые предписаны законами сообщества, не имеет права на то, чтобы ему повиновались, хотя бы форма государства все же сохранялась, поскольку он не является тем лицом, которого назначили законы, а следовательно, не тем лицом, [378] на которое дал согласие народ. И ни один такой узурпатор и никто из его потомства никогда не могут иметь права на власть до тех пор, пока народ не будет иметь свободу выразить свое согласие, и действительно его выразит, и утвердит пребывание у власти того, кто до сих пор ее узурпировал.
Глава XVIII. О тирании
199. Если узурпация есть осуществление власти, на которую имеет право другой, то тирания — это осуществление власти помимо права, на что никто не может иметь права. И это есть использование власти, которую кто-либо имеет в своих руках, не на благо тех, кто подчиняется этой власти, но в целях своей личной частной выгоды, когда правитель, какими бы полномочиями он ни обладал, кладет в основу своих действии не закон, а свою волю и его распоряжения и действия направлены не на сохранение собственности его народа, но на удовлетворение его собственного честолюбия, мстительности, жадности или какой-либо другой недостойной страсти.
200. Если кто-либо может сомневаться в справедливости или разумности сказанного, поскольку оно выходит из-под пера скромного подданного, то я надеюсь, что авторитет короля сделает это для него приемлемым. Король Яков I в своей речи, обращенной к парламенту в 1603 году, сказал следующее: «Я всегда буду предпочитать благо народа и всего государства каким-либо частным и личным моим целям при составлении хороших законов и конституций, поскольку я всегда считал, что богатство и благо государства являются моим величайшим благом и блаженством в этом мире и именно этим законный король полностью отличается от тирана. Ибо я утверждаю: главная и величайшая разница между законным королем и тираном-узурпатором состоит в том, что в то время как гордый и честолюбивый тиран считает свое королевство и народ предназначенными лишь для удовлетворения своих желаний и неумеренных аппетитов, праведный и справедливый король, напротив, признает, что он предназначен для обеспечения богатства и защиты собственности своего народа». А в его речи к парламенту в 1609 году содержатся следующие слова: «Король связывает себя двойной клятвой о соблюдении основных законов своего королевства. Молчаливо, поскольку, будучи королем, он обязан охра [379] нять как народ, так и законы своего королевства, и вслух при своей клятве во время коронации; точно так же каждый справедливый король в благоустроенном королевстве обязан соблюдать договор, заключенный с его народом посредством его законов, создавая свое правительство на этой основе в соответствии с тем договором, который бог заключил с Ноем после потопа: «Впредь время сева и жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся, пока существует земля». И поэтому король, управляющий благоустроенным королевством, перестает быть королем и вырождается в тирана, как только он перестает управлять согласно своим законам». И несколько далее: «Вот почему все короли, которые не являются ни тиранами, ни клятвопреступниками, будут рады ограничить себя пределами своих законов. А те, кто побуждает их к противному, суть твари и гады, приносящие вред как им, так и государству». В таких словах ученый король, хорошо понимавший суть вещей, излагает разницу между королем и тираном, которая заключается лишь в том, что один создает законы, ограничивающие его власть, и целью его правления является общественное благо, второй же все подчиняет своей воле и прихоти.
201. Было бы ошибочно думать, что этот недостаток присущ лишь монархиям; другие формы правления столь же ему подвержены. Везде, где власть, вложенная в чьи-либо руки для управления народом и для сохранения его собственности, применяется в других целях и используется для того, чтобы разорить его, терзать или подчинить деспотическим и беспорядочным приказаниям тех, кто обладает этой властью, везде она тотчас же становится тиранией независимо от того, один ли человек пользуется этой властью или несколько. Вот почему мы читаем о тридцати тиранах в Афинах, равно как и в Сиракузах; и невыносимая власть децемвиров в Риме была ничуть не лучше.
202. Где кончается закон, начинается тирания, если закон преступается во вред другому. И если кто-либо из находящихся у власти превышает данную ему по закону власть и использует находящуюся в его распоряжении силу для таких действий по отношению к подданному, какие не разрешаются законом, то он при этом перестает быть должностным лицом, и поскольку он действует подобным образом без надлежащих полномочий, то ему можно оказывать сопротивление, как и всякому другому человеку, который силой посягает на права другого. Это признается в отношении низших должностных лиц. Тому, кто имеет [380] право схватить меня на улице, можно оказывать сопротивление как разбойнику и грабителю, если он попытается вломиться в мой дом, чтобы исполнить данное ему предписание, хотя я и знаю, что он имеет ордер и обладает юридическими полномочиями, дающими ему право арестовать меня вне дома. И мне бы очень хотелось узнать, почему это не должно относиться к самым высшим должностным лицам, равно как и к самым низшим. Разве это было бы разумно, если бы старший брат на том основании, что он получил большую часть отцовского имущества, имел тем самым право отнять любую из долей своих младших братьев? Или если бы богач, владеющий всей округой, на этом основании имел право захватить, когда ему заблагорассудится, дом и сад своего бедного соседа? Если человек на законном основании обладает огромной властью и богатствами, превосходящими то, чем располагает подавляющее большинство сынов Адама, то это далеко не предлог и тем более не основание для грабежа и угнетения, каковыми является незаконное причинение вреда другому; напротив, это является в значительной степени отягчающим обстоятельством. Преступать пределы власти не имеет права ни высокопоставленное, ни низшее должностное лицо; это в равной степени непростительно как королю, так и констеблю. Для первого это еще хуже, поскольку он облечен большим доверием, уже имеет гораздо большую долю, нежели остальные из его братьев, и, как предполагается, благодаря полученному им образованию, роду своих занятий и имеющимся у него советникам гораздо лучше знает меру справедливости и несправедливости.
203. Но разве можно противиться велениям государя? Разве можно оказывать ему сопротивление всякий раз, как кто-либо будет чувствовать себя обиженным и считать, что с ним поступили несправедливо? Это приведет в расстройство и сокрушит все государства, и вместо правления и порядка не останется ничего, кроме анархии и смятения.
204. На это я отвечу, что силу следует противопоставлять лишь несправедливой и незаконной силе; всякий же, кто оказывает сопротивление в любом другом случае, навлекает на себя справедливое осуждение бога и людей; и поэтому не возникнет никакой опасности или смятения, как это часто предполагают, так как:
205. Во-первых, в ряде стран особа государя по закону является священной, и, таким образом, что бы он ни приказывал или ни делал, его особа по-прежнему свободна от [381] всякого посягательства или насилия, в отношении него нельзя применять ни силу, ни какое-либо юридическое порицание или осуждение. Тем не менее можно оказывать сопротивление незаконным действиям какого-либо низшего должностного лица или других уполномоченных государем лиц, если только он сам фактически не поставит себя в состояние войны со своим народом, распустит правительство и понудит народ прибегнуть к той защите, на которую имеет право всякий находящийся в естественном состоянии. И кто может предсказать, чем окончится такое положение вещей? Соседнее королевство показало миру странный пример. Во всех же остальных случаях священность особы государя избавляет его от всяких неудобств, благодаря чему он находится в безопасности от всякого насилия и вреда, пока существует власть, так что не может быть более разумного порядка. Ведь вряд ли часто будут возникать случаи, когда он лично может принести вред, к тому же этот вред не может быть очень большим, поскольку сам он своими лишь собственными силами не в состоянии ни уничтожать законы, ни угнетать основную массу народа; если же какой-либо государь будет проявлять столь большую слабость и столь дурной характер, чтобы желать сделать это, то неудобство в виде некоторых частных злоупотреблений, которые могут порой иметь место в тех случаях, когда на трон восходит государь-самодур, вполне уравновешивается миром для народа и безопасностью правления в лице главного должностного лица, поставленного таким образом вне опасности; для государства гораздо безопаснее, если иногда несколько частных лиц подвергнется опасности пострадать, чем если главу республики можно будет легко и при малейшем поводе ставить под удар.
206. Во-вторых, эта привилегия распространяется только на личность самого короля и не препятствует тому, чтобы ставились под сомнение, встречали сопротивление и противодействие те, кто несправедливо применяет силу, хотя бы они и претендовали на получение от него тех полномочий, которые не санкционированы законом. Это совершенно очевидно в том случае, когда некто имеет королевский приказ арестовать какого-либо человека и ему на то даны королем все полномочия; и однако, обладатель этого приказа не может для его исполнения вломиться в дом человека, равно как не может исполнить это повеление короля в некоторые дни или в некоторых местах, хотя в полученном им предписании ничего не говорится о подо [382] бном исключении; но это те ограничения, которые наложены законом, и если кто-либо их нарушает, то королевское предписание не является тому оправданием. Ведь, поскольку власть дана королю лишь по закону, он не может уполномочить кого-либо поступать вопреки закону или оправдать подобный поступок предоставленным им полномочием. Поручение или повеление любого должностного лица, когда он не имеет на то право, является столь же недействительным и незначащим, как если бы оно исходило от любого частного лица. Разница между тем и другим заключается в том, что должностное лицо обладает некоторой властью в определенных пределах и для определенных целей, а частное лицо совсем ее не имеет. Ведь не поручение, а власть дает право действовать; однако против законов не может быть никакой власти. Но, не взирая на подобное сопротивление, особа короля и власть находятся в безопасности, и, таким образом, не существует угрозы ни для правителя, ни для правления.
207. В-третьих, предположим, что имеется правление, при котором особа главного должностного лица не является подобным образом священной; все же доктрина о законности сопротивления всяким незаконным проявлениям его власти не будет при всяком незначительном случае угрожать ему или вносить смуту в государство. Ибо где можно восстановить справедливость в отношении потерпевшего и возместить понесенный им ущерб посредством обращения к закону, там не может быть повода для применения силы, которая используется лишь тогда, когда человеку препятствуют обратиться к закону. Ведь враждебной силой считается лишь такая сила, которая не дает возможности подобного обращения. И только такая сила ставит того, кто ее применяет, в состояние войны и делает законным сопротивление ему. Некто, держа в руке меч, требует у меня на большой дороге кошелек, в то время когда я, может быть, не имею в кармане и двенадцати пенсов; этого человека я могу убить на законном основании. Другому я даю подержать сто фунтов стерлингов, только пока я схожу с коня, и он отказывается вернуть мне их, когда я снова сел верхом, и при этом обнажает свой меч, чтобы силой защищать обладание этими деньгами, если я пытаюсь взять их обратно. Вред, который этот человек мне причиняет, в сто или даже в тысячу раз больше, чем тот, который собирался мне причинить первый (которого я убил прежде, чем он действительно нанес мне какой-либо ущерб); и тем не менее я могу на законном основании [383] убить одного, а другого не могу даже ранить на законном основании. Причина этого очевидна: ведь один применял силу, которая угрожала моей жизни, и у меня не было времени обратиться к закону за защитой, а если бы я лишился жизни, тогда обращаться к закону было бы уже слишком поздно. Закон не мог бы вернуть жизнь моему мертвому телу, потеря была бы невозместимой; вот почему для предотвращения этого закон природы дал мне право уничтожить того, кто поставил себя в состояние войны со мной и угрожал мне уничтожением. Но в другом случае моя жизнь не находилась в опасности и я мог воспользоваться преимуществом обращения к закону и вернуть себе таким путем сто фунтов стерлингов.
208. В-четвертых, если же незаконные действия, творимые должностным лицом, продолжаются (с помощью той власти, которой он обладает), а применению средств, положенных по закону, мешает та же самая власть, все же право сопротивления, даже в случае таких самых отъявленных актов тирании, не нарушит внезапно или по ничтожному поводу порядок правления. Ведь если все эти действия распространяются лишь на случаи, касающиеся нескольких частных лиц, то хотя они обладают правом защищать себя и вернуть себе силой то, что у них было взято незаконной силой, однако же по этому праву нелегко вовлечь их в борьбу, в которой они наверняка погибнут; один или несколько из угнетенных людей не в состоянии нарушить порядок правления, когда основная масса народа не считает, что это ее касается, как не в состоянии буйный безумец или недовольный сумасброд опрокинуть благоустроенное государство; народ столь же мало склонен следовать за одним, как и за другим.
209. Но если какое-либо из этих незаконных действий распространилось на большинство народа или же если злоупотребления и угнетения коснулись лишь немногих, но в таких случаях, когда предшествующие обстоятельства и последствия наводили на мысль, что опасность угрожает всем, и если все люди глубоко убеждены, что законы, а вместе с ними и их достояние, свободы и жизни в опасности, а возможно, и их религия, то я не знаю, что помешает им оказывать сопротивление незаконной силе, которая против них применяется. Это, я признаюсь, неудобство, которое сопутствует всякому правлению, когда правители довели его до подобного состояния, так что они сами находятся на подозрении у своего народа; это, пожалуй, самое опасное состояние, в которое они могут себя поста [384] вить, — в чем их менее следует жалеть, потому что этого так легко избежать; ведь невозможно, чтобы правитель, если он действительно желает добра своему народу и заботится о его сохранении и блюдет его законы, не добился того, чтобы народ видел и чувствовал это; это так же невозможно, как если бы дети не видели, что отец семейства любит их и заботится о них.
210. Но если все люди будут видеть, что говорится одно, а делается другое, используются уловки, чтобы обойти закон, и данная по доверию прерогатива (которая является неограниченной властью в отношении некоторых вещей, оставленной в руках государя на благо, а не во вред народу) применяется в целях, противоположных тем, ради которых она была дана; если народ увидит, что министры и нижестоящие должностные лица избираются так, чтобы они подходили для таких целей, и что они пользуются благоволением или отставляются в зависимости от того, насколько они способствуют этим целям или противодействуют им; если народ видит, что неоднократно проявляется неограниченная власть и что втихомолку поощряется определенная религия (хотя публично против нее выступали), которую уже готовы ввести, и что распространяющие ее получают всяческую поддержку, а если это не может быть сделано, то их всячески одобряют и привечают; если целый ряд акций показывает, что органы власти все склоняются к этому, то как может какой-либо человек не чувствовать себя в душе убежденным в том, к чему идет дело? В такой же мере он не может не размышлять о том, как ему спастись, если он убежден, что капитан корабля, на котором он находится, везет его и всех остальных в Алжир, поскольку он видит, что капитан все время держится этого курса, хотя противные ветры, течь в корабле и недостаток людей и продуктов часто вынуждали его на некоторое время отклоняться от этого курса, но он упорно снова ложился на него, как только ему позволяли ветер, погода и прочие обстоятельства.
Глава XIX. О распаде системы правления
211. Тот, кто хочет сколь-либо ясно говорить о распаде системы правления, должен сначала провести различие между распадом общества и распадом системы правления. То, что создает сообщество и сводит людей из разъединен [385] ного естественного состояния в одно политическое общество, — это соглашение, которое каждый заключает со всеми остальными о том, чтобы объединиться и выступать в качестве одного целого и стать таким образом единым особым государством. Обычной и почти единственной причиной, по которой распадается этот союз, является вторжение иноземных войск, которые завоевывают его; ибо в этом случае (поскольку люди не в состоянии поддерживать и сохранять себя как один целый и независимый организм) союз людей, относящийся к тому целому, которое из них состояло, должен неизбежно прекратиться, и, таким образом, каждый возвращается к тому состоянию, в котором он был раньше, и получает свободу самому о себе заботиться и обеспечивать свою безопасность так, как он считает это подходящим, в каком-либо другом обществе. Когда какое-либо общество распадается, несомненно, что система правления этого общества не может остаться. Нередки случаи, когда мечи завоевателей подрезают системы правления самого корня и разрубают общества на куски, лишая покоренную или рассеянную массу защиты и поддержки того общества, которое должно было бы предохранить ее от насилия. Мир слишком хорошо знает об этом и является слишком просвещенным, чтобы допускать подобный способ распада систем правления, так что об этом нет необходимости больше говорить; и не требуется слишком много аргументов для доказательства того, что, когда общество распадается, система правления не может продолжать существовать; это столь же невозможно, как невозможно, чтобы каркас дома устоял, когда материалы, из которых он сделан, разбросаны и расшвыряны ураганом или все они превращены землетрясением в кучу мусора.
212. Помимо этого свержения извне системы правления распадаются под действием сил изнутри.
Во-первых, когда изменяется законодательный орган, гражданское общество представляет собой состояние мира среди тех, из кого оно состоит и меж коими состояние войны исключено благодаря третейскому суду, который они создали в виде своего законодательного органа для прекращении всех разногласий, которые могут возникнуть между ними; именно в своем законодательном органе члены государства соединены и объединены все вместе в одно связанное живое тело. Это та душа, которая дает форму, жизнь и единство государству; благодаря этому отдельные члены пользуются взаимным влиянием, симпатией и связью; и вот почему когда законодательный орган раз [386] бит или распущен, происходят распад и смерть. Ведь если сущность и единство общества состоят в том, чтобы иметь одну волю, то законодательный орган, будучи однажды учрежден большинством, обладает правом провозглашать и осуществлять ату волю. Создание законодательного органа является первым и основным актом общества, благодаря которому обеспечивается продолжение союза людей под руководством определенных лиц и при ограничениях, проистекающих из законов, созданных уполномоченными на то лицами с согласия народа и по его назначению, без чего ни один человек в никакое число людей среди них не могут иметь власти создавать законы, обязательные для остальных. Когда один или несколько человек возьмутся составлять законы, не будучи на то уполномочены народом, то созданные ими законы не будут иметь силы и народ не будет обязан им повиноваться; благодаря этому люди снова окажутся вне какого-либо подчинения и могут создать себе новый законодательный орган, который они считают лучше, и совершенно вольны сопротивляться применению силы со стороны тех, кто, не имея на то права, захотел бы их к чему-либо принудить. Каждый может поступать по собственной воле, когда те, кто по уполномочию общества должен был бы провозглашать его волю, лишены этой возможности и их место узурпировано другими, которые не имеют на то ни права, ни полномочия.
213. Подобное положение возникает обычно в государстве из-за тех, кто злоупотребляет властью, которой он облечен; и трудно считать, что является справедливым, и знать, на кого здесь падает вина, не будучи знакомым с формой правления, при которой это происходит. Предположим, что законодательная власть находится совместно у трех различных лиц:
1. Одно наследственное лицо — обладает постоянной высшей исполнительной властью и вместе с тем властью созывать и распускать два других органа власти в определенные промежутки времени.
2. Собрание наследственного дворянства.
3. Собрание представителей, избранных pro tempore [временно] народом. Такая форма правления предполагается, очевидно:
214. Во-первых, когда одно подобное лицо, или государь, ставит свою собственную деспотическую волю на место законов, которые представляют собой волю общества, провозглашенную законодательным органом, то тогда законодательная власть меняется. Ведь в действительности [387] законодательным органом является тот, постановления и законы которого исполняются и которому необходимо повиноваться; когда же устанавливаются другие законы и издаются другие постановления, причем они насильственно проводятся вопреки тем, которые были созданы законодательным органом, поставленным обществом, то очевидно, что законодательная власть изменилась. Кто бы ни вводил новые законы, не будучи на то уполномочен обществом, или кто бы ни подрывал старые, тот отвергает и уничтожает ту власть, которой они были созданы, и таким образом учреждает новый законодательный орган.
215. Во-вторых, когда государь препятствует законодательному органу собраться в должное время или мешает ему действовать свободно для осуществления тех целей, ради которых он был создан, то законодательная власть меняется. Ведь законодательная власть — это ни определенное число людей, отнюдь нет, ни их собрание, если у них нет также свободы обсуждать и досуга, чтобы совершенствовать то, что направлено на благо общества; когда эти условия отняты или изменены, так что общество лишено возможности осуществлять принадлежащую ему власть, то законодательный орган действительно меняется. Ибо не названия составляют правительства, а использование и применение той власти, которая, как предполагалось, должна им сопутствовать; таким образом, тот, кто лишает законодательный орган этой свободы или препятствует ему проводить свою деятельность в должные сроки, фактически уничтожает законодательную власть и ликвидирует систему правления.
210. В-третьих, когда по деспотической воле государя заменяются выборщики или меняется процедура выборов без согласия народа и в разрезе с его общими интересами, то тогда также меняется и законодательная власть. Ведь когда избирают не те, кого уполномочило общество, или избирают иным образом, чем это предписано обществом, то те, кто избран, не представляет собой законодательного органа, назначенного народом.
217. В-четвертых, передача народа в подданство иностранной державе либо государем, либо законодательным органом, несомненно, представляет собой изменение законодательной власти и, следовательно, распад системы правления. Ведь та цель, ради которой народ вступил в общество, заключается в том, чтобы охранять цельное, свободное, независимое общество, управляемое своими [388] собственными законами; все это утрачивается, когда людей передают под власть кого-либо другого.
218. Вполне понятно, почему при таком государственном устройстве распад системы правления относится за счет государя; дело в том, что он распоряжается силой, казной и должностями государства и часто убеждает себя или его лестью убеждают другие в том, что он в качестве верховного должностного лица не подлежит никакому контролю; лишь он один в состоянии принимать значительные меры для подготовки подобных изменений под видом законной власти, и он, держа ее в своих руках, может устрашать или подавлять противящихся как раскольников, бунтовщиков и врагов правительства; вместе с тем никакая другая часть законодательного органа или народа не в состоянии сама по себе попытаться провести какое-либо изменение законодательной власти без открытого и явного восстания, которое сразу же будет замечено; а когда оно берет верх, то результаты его весьма мало отличаются от иноземного завоевания. Кроме того, государь при такой форме правления обладает властью распускать другие части законодательного органа и тем самым превращать их членов в частных лиц, которые никогда не могут вопреки ему или без согласования с ним изменить законодательную власть посредством закона, поскольку его согласие необходимо для того, чтобы дать любому из их указов эту санкцию. Однако же в той мере, в какой другие части законодательного органа каким-либо образом способствуют любому покушению на образ правления и помогают осуществлению или же не препятствуют (что в их силах) осуществлению подобных замыслов, они виновны и являются соучастниками в том, что, бесспорно, является величайшим преступлением, в котором люди могут быть виновны по отношению друг к другу.
219. Есть один путь, вступив на который может распасться такая система правления, а именно когда тот, кто обладает верховной исполнительной властью, пренебрегает своими обязанностями и не исполняет их, так что уже изданные законы не могут быть введены в действие. Это совершенно очевидно приводит к анархии и в конце концов к распаду системы правления. Ведь законы создаются не ради самих законов, но для того, чтобы они выполнялись и тем самым служили узами, связывающими общество, чтобы держать все части политического тела в надлежащих местах и при надлежащем функционировании; когда это полностью прекращается, то явно прекращается и [389] правление, и народ становится беспорядочной массой, лишенной всякого порядка и связи. Там, где не продолжается более отправление правосудия для обеспечения прав людей и в обществе не остается какой-либо власти, которая направляла бы его силу или обеспечивала бы нужды населения, там, несомненно, не остается и правительства. Когда законы не могут исполняться, то это все равно как если бы законов не было; а правление без законов, как я полагаю, представляет собой тайну в политике, непостижимую для человеческого разумения и несовместимую с человеческим обществом.
220. В этом и в других подобных случаях, когда правление распалось, народ волен сам позаботиться о себе, создав новый законодательный орган, отличающийся от прежнего или составом, или формой, или же и тем и другим в зависимости от того, что народ сочтет более соответствующим интересам его безопасности и блага. Ведь общество никогда не может в результате ошибки какого-либо лица утратить природное и первоначальное право, которое оно имеет, на самосохранение, что может быть достигнуто только с помощью установленного законодательного органа и справедливого и беспристрастного осуществления изданных им законов. Однако человечество не находится в столь жалком состоянии, чтобы оно не могло использовать данное средство до тех пор, пока не будет слишком поздно вообще прибегать к какому-либо средству. Говорить народу, что он может позаботиться о себе, создав новый законодательный орган, когда в результате угнетения, хитрости или передачи под власть иноземной державы его прежний законодательный орган уничтожен, — это значит сказать ему только, что он может ожидать помощи, когда уже слишком поздно и зло неизлечимо. На деле это означает лишь допустить сперва, чтобы люди стали рабами, а затем начать заботиться об их свободе, и, когда они находятся в цепях, говорить им, что они могут поступать как свободные люди. Но если только это так, то это скорее насмешка, нежели помощь; и люди никогда не могут быть в безопасности от тирании, если у них нет средств избежать ее до того, пока они не очутятся полностью под ее властью; и отсюда следует, что они имеют право не только избавиться от тирании, но и не допустить ее.
221. Существует, следовательно, во-вторых, еще один путь распада системы правления, а именно когда законодательный орган или государь, кто-либо из них, действует вопреки оказанному им доверию.
[390] Во-первых, законодательный орган действует вопреки оказанному ему доверию, когда он пытается посягать на собственность подданных и стать сам или сделать какую-либо часть сообщества хозяином или неограниченным повелителем жизни, свободы или имущества народа.
222. Причина, по которой люди вступают в общество, — это сохранение их собственности; и цель, ради которой они избирают и уполномочивают законодательный орган, заключается в том, чтобы издавались законы и устанавливались правила в качестве гарантии и охраны собственности всех членов общества, дабы ограничивалась власть и умерялось господство каждой части и каждого члена общества. Ведь никак нельзя предположить, будто воля общества заключалась в том, чтобы законодательный орган обладал властью уничтожить то, что каждый собирается обеспечить, вступая в общество, и ради чего люди стали подчиняться поставленным ими самими законодателям; когда же законодатели пытаются отнять и уничтожить собственность народа или повергнуть его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в состояние войны с народом, который вследствие этого освобождается от обязанности какого-либо дальнейшего повиновения и свободен обратиться к общему прибежищу, которое бог предусмотрел для всех людей против силы и насилия. Следовательно, в том случае, когда законодательный орган преступит этот основной принцип общества и в силу честолюбия, страха, безумия или подкупа попытается захватить сам или передать в руки кого-либо другого абсолютную власть над жизнью, свободой и имуществом народа, то из-за этого нарушения доверия он лишается той власти, которую передал в его руки народ для совершенно противоположных целей, и эта власть возвращается народу, который имеет право восстановить свою первоначальную свободу и посредством учреждения нового законодательного органа (такого, какой он сочтет подходящим) обеспечить собственную безопасность и защиту, что является той целью, ради которой люди находятся в обществе. То, что я здесь сказал в отношении законодательной власти вообще, справедливо также и в отношении главы исполнительной власти, который, получив двойное доверие — как участник законодательного органа и как верховный исполнитель закона, действует в нарушение того и другого, когда пытается навязать свою деспотическую волю в качестве закона общества. Он тоже действует в нарушение оказанного ему доверия и тогда, когда либо пытается использовать силу, казну [391] и должности общества для подкупа представителей и для поддержки ими его замыслов, либо открыто заранее привлекает на свою сторону выборщиков и предписывает им избрать тех, кого он посредством уговоров, угроз, обещаний или иным каким-либо способом обратил в своих сторонников, и использует выборщиков для выбора тех, кто заранее пообещал голосовать и издавать законы, как им скажут. Но разве подобрать кандидатов и выборщиков и изменить способ выборов не означает подрезать образ правления под самый корень и отравить сам источник общественной безопасности? Ведь народ, сохранив за собой право выбирать своих представителей как ограду своей собственности, не мог сделать это для какой-либо иной цели, кроме как для того, чтобы эти представители могли всегда свободно избираться и, будучи так избраны, свободно действовать и советовать, как того требуют, по их суждению, необходимость для государства и общественное благо, после рассмотрения и зрелого обсуждения. Те же, кто отдают свой голос еще до того, как услышат обсуждение и взвесят доводы всех сторон, не в состоянии так поступать. Подготовка подобного законодательного собрания и попытка представить явных проводников собственной воли главы исполнительной власти в качестве подлинных представителей народа и законодателей общества, несомненно, является столь грубым нарушением доверия и столь полным заявлением о своем умысле свергнуть правительство, с каким только можно встретиться. Если же к этому еще прибавить награды и наказания, явно применяемые для этой же цели, и всевозможные превратные толкования закона, для того чтобы убрать и уничтожить всех, кто стоит на пути к осуществлению этого замысла и не хочет стать соучастником предательства свободы своей родины, то не будет никаких сомнений в том, что происходит. Какую власть должны иметь в обществе те, кто подобным образом применяет ее в нарушение оказанного им доверия, связанного с их должностью с самого ее учреждения, легко определить; и невозможно не видеть, что тот, кто однажды попытался совершить подобную вещь, уже не может больше заслуживать доверия.
223. На это, возможно, будет сказано, что так как народ невежествен и всегда недоволен, то ставить основу правления в зависимость от неустойчивого мнения и непостоянного настроения народа — это значит обрекать государство на несомненную гибель; и ни одно правительство не будет в состоянии долго существовать, если народ сможет [392] создавать новый законодательный орган всякий раз, как будет недоволен прежним. На это я отвечу: дело обстоит как раз наоборот. Люди не так легко отказываются от старых форм, как это могут некоторые предположить. Их с трудом удастся убедить исправить явные недочеты в той структуре, к которой они привыкли. И если там имелись какие-либо изначальные недостатки или что-либо неподобающее было введено как дань времени или подкупу, то нелегко добиться изменений даже тогда, когда все на свете видят, что для этого имеется возможность. Эта медлительность народа и его нежелание отказываться от старых порядков привели к тому, что после многих революций, происходивших в этом королевстве в наш век и в прошлые века, у нас все еще сохранилась или после некоторого периода бесплодных попыток вновь к нам вернулась наша старая законодательная система — король, палата лордов и палата общин; и какие бы вызывающие действия со стороны короны ни приводили к необходимости снимать ее с головы некоторых из наших государей, они никогда не заводили народ настолько далеко, чтобы передать ее другой династии.
224. Но скажут, что эта гипотеза послужит возбудителем частых восстаний. На это я отвечу:
Во-первых, не в большей степени, чем какая-либо другая гипотеза. Ведь когда народ делают несчастным и он оказывается подверженным злоупотреблениям деспотической власти, можно сколько угодно восхвалять его правителей и называть их сынами Юпитера; пусть они будут священными и божественными, снизошедшими с неба или помазанными им; выдавайте их за кого или за что угодно — все равно произойдет то же самое. Народ, с которым все время дурно обращаются и права которого нарушают, будет готов при первом же случае освободиться от лежащего на нем тяжкого бремени. Он будет желать и искать возможности, которая при переменчивости, слабости и случайности человеческих дел редко заставляет себя долго ждать. Тот, кто не видел подобных примеров на своем веку, очевидно, мало жил на свете, и тот, кто не может привести примеров этого при всевозможных видах правления в мире, должно быть, очень мало читал.
225. Во-вторых, отвечу я, такие революции не происходят при всяком незначительном непорядке в общественных делах. Грубые ошибки со стороны власти, многочисленные неправильные и неудобные законы и все промахи человеческой слабости народ перенесет без бунта и ропота. Но [393] если в результате длинного ряда злоупотреблений, правонарушений и хитростей, направленных к одному и тому же, народу становится ясно, что здесь имеется определенный умысел, и он не может не чувствовать, что его гнетет, и не видеть, куда он идет, то не приходится удивляться, что народ восстает и пытается передать власть в руки тех, кто может обеспечить ему достижение целей, ради которых первоначально создавалось государство и без которых древние названия и благовидные формы ничуть не лучше, а гораздо хуже, чем естественное состояние или чистейшая анархия; неудобства столь же велики и столь же близки, но средство исцеления находится гораздо дальше и труднодоступнее.
226. В-третьих, отвечу я, данная доктрина о том, что народ властен заново обеспечить свою безопасность с помощью нового законодательного органа, когда его законодатели нарушили оказанное им доверие, посягнув на его собственность, является лучшей гарантией от восстания и наиболее вероятным способом воспрепятствовать ему. Ибо восстание — это сопротивление не отдельным лицам, но власти, которая основывается лишь на конституциях и законах правительства; те же, кто силой нарушают их и силой же оправдывают свое нарушение, — кем бы они ни были — являются истинными и подлинными мятежниками. Ведь когда люди вступили в общество и создали гражданское правление, то они исключили применение силы и ввели законы для сохранения собственности, мира и единства между собой; те же, кто снова применяет силу в противоположность законам, начинают rebellare, т. е. вновь создают состояние войны и являются подлинными мятежниками. Вероятнее всего, это делают как раз те, кто находится у власти (из-за претензий на авторитет, из-за искушения применить силу, которую они имеют в своих руках, а также из-за лести их приближенных); самый подходящий способ воспрепятствовать этому злу — показать опасность и несправедливость этого тем, кто подвергается величайшему искушению впасть в него.
227. В обоих вышеупомянутых случаях, когда либо изменяется законодательный орган, либо законодатели действуют вразрез с теми целями, для которых они были назначены, те, кто виновны, виновны в мятеже. Ведь когда кто-либо силой уничтожает установленный законодательный орган в каком-либо обществе и законы, созданные этим органом в соответствии с оказанным ему доверием, он тем самым уничтожает третейский суд, на который согла [394] сился каждый для мирного разрешения всех споров и который должен был являться препятствием к состоянию войны между людьми. Те, кто устраняет или меняет законодательный орган, уничтожают ту решающую силу, которой никто не может обладать, кроме как по назначению народа и с его согласия, и тем самым уничтожают власть, созданную народом, которую никто, кроме него, не может учреждать, и вводят власть, которую народ не разрешал; такие люди фактически создают состояние войны, которое представляет собой состояние, где действует голая сила, никем не одобренная; и таким образом, устраняя учрежденный обществом законодательный орган (чьи решения одобрены народом и объединили народ и которые народ рассматривает как свою собственную волю), они развязывают узел и заново повергают народ в состояние войны. И если те, кто силой уничтожает законодательный орган, являются мятежниками, то и самих законодателей, как было показано, нельзя не считать таковыми; когда те, кто был поставлен для защиты и охраны народа, его свободы и собственности, силой посягают на них и пытаются их отнять, то они тем самым ставят себя в состояние войны с теми, кто сделал их своими защитниками и охранителями мира, — в этом случае они доподлинно и при самых отягчающих обстоятельствах суть rebellantes — мятежники.
228. Но если те, кто говорит, что «это даст основание для восстания», подразумевают, что если сказать народу, что он освобождается от повиновения, когда производятся незаконные покушения на его свободу или собственность, и может оказывать сопротивление незаконному насилию со стороны тех, кто были его должностными лицами, когда они покушаются на его собственность в нарушение оказанного им доверия, то могут возникнуть гражданские войны или внутренние беспорядки, и вследствие этого подобная доктрина недопустима, так как она является гибельной для мира во всем мире, тогда эти люди могут с таким же успехом и на том же основании сказать, что честные люди не могут оказывать сопротивления разбойникам или пиратам, поскольку это может привести к беспорядку или кровопролитию. Если в подобных случаях и свершится какое-либо зло, то обвинять в этом следует не того, кто защищает свое собственное право, а того, кто посягает на право своего ближнего. Если невинный, честный человек должен для сохранения мира спокойно отдать все, что он имеет, тому, кто захочет захватить это с помощью насилия, [395] то я бы хотел, чтобы подумали о том, какого рода мир будет тогда в мире, состоящем лишь из насилия и грабежа, и который будет поддерживаться лишь ради выгоды разбойников и угнетателей. Кто бы не посчитал, что между могущественными и ничтожными установлен замечательный мир, когда ягненок без сопротивления допускает, чтобы всевластный волк перегрыз ему горло? Пещера Полифема дает нам превосходнейший образец такого мира и такого правления, когда Улиссу и его спутникам ничего не оставалось, как спокойно допускать, чтобы их пожрали. И можно не сомневаться, что Улисс, будучи благоразумным человеком, проповедовал пассивное повиновение и призывал их к спокойному покорству, разъясняя им, какое значение для человечества имеет мир, и показывая, какие неудобства могут возникнуть, если они станут сопротивляться Полифему, во власти которого они находились.
229. Целью правления является благо человечества; а что лучше для человечества — это чтобы народ всегда был предоставлен ничем не ограниченной воле тирании или чтобы можно было иногда оказывать сопротивление правителям, когда они переходят всякую меру в использовании своей власти и направляют ее на уничтожение, а не на сохранение собственности своего народа?
230. Пусть теперь кто-либо возразит, что всякий раз, когда какая-нибудь сумасбродная голова или мятущийся дух захотят перемены правления, это может приводить к несчастью. Верно, подобные люди могут порождать возмущение, когда им заблагорассудится, но все это приведет лишь к их собственной справедливой гибели и уничтожению. Ведь пока несчастье не станет всеобщим и злые умыслы правителей не сделаются очевидными или их посягательства не будут ощутимы для большей части народа, до тех пор народ, который более склонен страдать, чем восстановить справедливость сопротивлением, не склонится к возмущению. Примеры отдельной несправедливости или угнетения того или иного несчастного человека не трогают народа. Но если у народа имеется убеждение, основанное на явных доказательствах, что осуществляются замыслы, обращенные против его свободы, и общий ход событий и их направление не могут не возбуждать в народе сильные подозрения в злых умыслах его правителей, то кого следует за это порицать? Кто же в состоянии помочь, если те, кто мог бы избежать этого, сами навлекают на себя подобные подозрения? Разве следует порицать народ, если он обладает умом разумных существ и может понимать ве [396] щи только такими, какими он их обнаруживает и чувствует? И разве это скорее не вина тех, кто приводит вещи в такое положение, что они не хотели бы, чтобы думали о том, что оно таково, каково есть? Я признаю, что гордость, честолюбие и пылкость частных лиц иногда вызывали большие беспорядки в государствах, а клики были гибельны для общественного положения и королевств. Но что являлось чаще причиной несчастья — безрассудство народа и желание свергнуть законную власть его правителей или же наглость правителей и их попытки захватить и осуществлять деспотическую власть над своим народом, угнетение ли или неповиновение служило первым толчком к беспорядкам — определить это я предоставлю беспристрастной истории. В одном я, однако, твердо уверен: будь то правитель или подданный, но если он пытается силой покушаться на права государя или народа и его действия ведут к низвержению системы и структуры любого справедливого правления, то он виновен в ужаснейшем преступлении, на которое, по-моему, способен человек, и должен отвечать за все те несчастья, за кровь, насилия и разорение, которым подверглась страна в результате разрушения системы правления. И тот, кто поступает таким образом, должен по справедливости считаться общим врагом и чумой человечества, и с ним следует поступать соответствующим образом.
231. Если подданные или иностранцы посягают силой на собственность какого-либо народа, им можно оказывать сопротивление силой — с этим согласны все. Но то, что можно оказывать сопротивление и должностным лицам, если они совершают то же самое, — это недавно отрицалось; как будто бы те, кто по закону обладают величайшими привилегиями и преимуществами, тем самым имеют власть нарушать те самые законы, на основании которых эти люди только и были посажены на лучшие места, чем их братья; напротив, их преступление тем больше, так как они одновременно не проявили благодарности за большую долю, которую они имеют по закону, и нарушили доверие, которое было оказано им их братьями.
232. Если кто-либо применяет силу без права — как это делает в обществе каждый, кто поступает беззаконно, — то он ставит себя в состояние войны с теми, против кого он ее так применяет; а в таком состоянии все прежние узы разрываются, все другие права недействительны и каждый имеет право защищать себя и сопротивляться агрессору. Это столь очевидно, что даже сам Баркли, этот величай [397] ший адвокат власти и священности королей, вынужден признать, что народ в некоторых случаях имеет законное право сопротивляться своему королю; и притом это говорится в той главе, где он старается показать, что божественный закон воспрещает народу какой-либо мятеж. Тем самым очевидно, даже из его собственной доктрины, что поскольку народ в некоторых случаях может оказывать сопротивление, то не всякое сопротивление государям является мятежом. Вот его слова: [цитата на латинском опущена]. В переводе это означает:
233. «Но если кто-либо спросит, должен ли народ всегда быть беззащитным перед лицом жестокости и ярости тирании? Должны ли люди видеть, как их города грабятся и обращаются в пепел, как их жены и дети подвергаются похоти и ярости тиранов и как они сами и их семьи разо [398] ряются их королем и им приходится переносить все бедствия нужды и угнетения, и при этом они все же должны оставаться спокойными? Разве одни люди должны быть лишены общей привилегии противостоять силе силой, которую природа так свободно предоставляет всем другим существам для предохранения их от насилия? Я отвечаю: самозащита есть часть закона природы; сообщество не может быть ее лишено, даже если приходится выступать против самого короля; но мстить ему ни в коем случае не должно быть позволено народу; это не соответствует данному закону. В случае если король не только проявляет ненависть к каким-либо отдельным лицам, но и выступает против всего государства, главой которого он является, и посредством невыносимо дурного обращения жестоко тиранит весь народ или значительную его часть, то в этом случае народ имеет право оказать сопротивление и защитить себя от насилия. Но при этом должна соблюдаться следующая предосторожность — чтобы люди только защищали себя, а не нападали на своего государя; они могут возместить понесенный ущерб, но ни при каких обстоятельствах не должны преступать границы должного уважения и почтения. Они могут отразить нынешнее нападение, но не должны мстить за прошлые обиды. Ибо для нас естественно защищать свою жизнь и здоровье, но если низший станет наказывать высшего, то это противно природе. Злой умысел против себя народ может предотвратить еще до его осуществления; но если злой умысел свершился, нельзя мстить за это королю, хотя бы он и был инициатором подлости. Вот в чем, таким образом, привилегия народа в целом больше, чем та, которой обладает какое-либо частное лицо: частные лица, даже по мнению наших противников (за исключением Бьюкенена), не имеют иного средства, кроме терпения; но весь народ в целом может с почтением оказывать сопротивление невыносимой тирании; когда же она только умеренная, то народ должен ее терпеть».
234. В такой мере этот великий адвокат монархической власти разрешает сопротивление.
235. Правда, он присоединяет к этому, неизвестно зачем, две оговорки. Во-первых, он говорит, что сопротивление должно оказываться с почтением.
Во-вторых, это сопротивление должно быть без возмездия или наказания; он мотивирует это тем, что низший не может наказывать высшего.
[399] Первое. Как оказывать сопротивление силе, не нанося ответного удара, или как ударить с почтением, — нужно немалое искусство, чтобы сделать это понятным. Тот, кто будет сопротивляться нападению только со щитом, чтобы прикрываться от ударов, или в какой-либо еще более почтительной позе, не имея меча в руке, чтобы смирить самоуверенность и силу нападающего, быстро окажется не в состоянии сопротивляться и увидит, что такая защита лишь навлечет на него еще худшее обхождение. Этот способ сопротивления столь же смешон, как и высмеиваемое Ювеналом поведение в драке: «Ubi tu pulsas, ego vapulo tantum» [«Когда тебя бьют, а ты принимаешь удары»]. А исход боя неизбежно будет таким же, какой он здесь описывает:
Libertas pauperis haec est:
Puisatus rogat, et pugnis concisus, adorat,
Ut liceat paucis cum dentibus inde reverti.
[...Такова бедняков уж свобода:
Битый, он просит сам, в синяках весь, он умоляет.
Зубы хоть целы пока, отпустить его восвояси.]
Таким неизбежно будет исход подобного мнимого сопротивления, когда люди не могут наносить ответных ударов. Следовательно, тому, кто может оказывать сопротивление, должно быть разрешено ударять. А тогда пусть наш автор или кто-либо еще попробует стукнуть по голове или дать по физиономии со всем тем почтением и уважением, которые он считает подобающими. Тот, кто может сочетать удары и почтение, может, насколько я понимаю, заслужить за свои труды вежливую почтительную взбучку, где бы это ни произошло.
Второе. Что касается его второго положения — низший не может наказывать высшего, то это, вообще говоря, справедливо, пока тот является высшим. Но оказывать сопротивление силе силой означает состояние войны, которое уравнивает сражающиеся стороны, аннулирует все прежние отношения уважения, почтения и превосходства; а тогда остается только то неравенство, что тот, кто сопротивляется несправедливому агрессору, имеет над ним верховенство, состоящее в том, что он имеет право, если одолеет, наказать преступника как за нарушение мира, так и за все проистекающее из этого зло. Вот почему Баркли в другом месте, будучи более последовательным, отрицает, что сопротивление королю может быть законным в каком-либо случае. Однако здесь он оговаривает два случая, когда король может сам себя низложить. Вот его слова: [цитата на латинском опущена].
[400] 236. <…> В переводе это означает:
237. «Так как же, неужели ни в одном случае народ не может по праву и по своему собственному полномочию помочь себе, взяться за оружие и напасть на своего короля, [401] властно повелевающего им? Никогда, пока он остается королем. «Почитай короля» и «Тот, кто сопротивляется власти, сопротивляется велению бога» — вот божественные изречения, которые никогда этого не позволят. Народ, таким образом, никогда не может выступить против него с применением силы, если только он не совершит чего-либо такого, в результате чего он перестанет быть королем. Ибо тогда он сам лишает себя короны и достоинства и возвращается к состоянию частного лица, и народ становится свободным и верховным; та власть, которой народ обладал в междуцарствие, до того как они венчали его на царство, снова переходит к народу. Но существует всего лишь несколько противозаконных действий, которые приводят к подобному состоянию. Тщательно обдумав этот вопрос, я могу указать лишь два. Имеется всего два случая, говорю я, когда король, ipso facto [в силу самого факта], перестает быть королем и утрачивает всю власть и королевскую прерогативу над своим народом; на это обратил внимание также Винцерус.
Первый случай, когда он пытается свергнуть правительство, т. е. если он задался целью и умыслил уничтожить королевство и государство, как это сообщается о Нероне, который решил вырезать сенат и римский народ, опустошить город огнем и мечом и затем переехать в какое-либо другое место, и о Калигуле, который открыто заявил, что он не желает более быть главой народа и сената, что он собирается перерезать достойнейших людей обоих сословий, а затем удалиться в Александрию и что он хотел бы, чтобы у народа была всего одна шея, которую он мог бы перерубить одним ударом. Если какой-либо король питает подобные замыслы и действительно стремится осуществить их, то он тут же отказывается от всяких забот и мыслей о государстве и, следовательно, теряет право управлять своими подданными, точно так же как господин утрачивает власть над своими рабами, если он их покинул.
238. Второй случай тот, когда король становится вассалом другого и подчиняет свое королевство, оставленное ему предками, и народ, переданный в его руки свободным, господству другого. Пусть его намерения и не были направлены во вред народу, но он тем самым утратил основную часть королевского достоинства, а именно являться следующим после бога и подчиняться только ему, быть верховным правителем в своем королевстве, а также и потому, что он предал или принудил свой народ, свободу которого он обязан был тщательно охранять, перейти под власть и господство иноземной нации. Посредством такого [402] как бы отчуждения своего королевства он сам утрачивает ту власть, которой он раньше в нем обладал, не передавая ни малейшего права тем, на кого бы он ее ни возложил; и посредством этого своего акта он освобождает народ, и тот теперь может сам собой распоряжаться. Один из таких примеров можно найти в „Шотландских хрониках“».
239. В подобных случаях Баркли, великий защитник абсолютной монархии, вынужден признать, что королю можно оказывать сопротивление и что он перестает быть королем. Иными словами, говоря вкратце, чтобы не увеличивать примеров, в тех случаях, когда король не имеет полномочий, он не король и ему можно оказывать сопротивление; ибо, когда бы ни прекратилось действие полномочий, король тут же перестает быть королем и становится подобным другим людям, не имеющим полномочий. Те же два случая, которые он привел, весьма мало отличаются от вышеупомянутых по своей разрушительности для правительств; он лишь опустил тот принцип, из которого вытекает его доктрина, а именно нарушение доверия, поскольку не сохраняется та форма правления, о которой была договоренность, и не осуществляется цель самого правления, которая заключается в общественном благе и сохранении собственности. Когда король сам себя низложил и поставил себя в состояние войны со своим народом, то было бы хорошо, если бы Баркли и те, кто разделяет его мнение, сообщили нам, что может помешать народу преследовать судебным порядком того, кто не является королем, как народ поступил бы со всяким другим человеком, поставившим себя в состояние войны с ним. Я хочу еще обратить внимание на одно место у Баркли, когда он говорит: «Злой умысел против себя народ может предотвратить до его осуществления»; тем самым он допускает сопротивление, когда тирания еще только замышляется. «Если какой-либо король, — говорит он, — питает подобные замыслы и действительно стремится осуществить их, то он тут же отказывается от всяких забот и мысли о государстве»; таким образом, согласно ему, пренебрежение общественным благом должно считаться доказательством подобного замысла или по крайней мере достаточным поводом для сопротивления. А причину всего этого он излагает в следующих словах: «потому что он предал или принудил свой народ, свободу которого он обязан был с большим старанием охранять». То, что он добавляет, — «перейти под власть и господство иноземной нации» — ничего не значит, так как вина и злоупотребление заключаются а утрате народом свободы, ко [403] торую король обязан был сохранить, и никакой разницы не составляет, под власть каких лиц народ принуждают перейти. Право народа в равной мере нарушено и свобода его утрачена независимо от того, сделают ли его рабом каких-либо лиц его собственной национальности или иноземной нации, именно в этом заключается ущерб, и только против этого народ имеет право защиты. Во всех странах можно найти примеры, показывающие, что оскорбление наносит не перемена национальности лиц, находящихся у власти, а перемена правления. Билсон, епископ нашей церкви и великий сторонник власти и прерогативы государей, признает, если я не ошибаюсь, в своем трактате «Христианская покорность», что государи могут утратить свою власть и свое право на покорность со стороны подданных; а если еще нужны авторитеты в вопросе, где и без того все ясно, то я могу отослать своего читателя к Брэктону, Фортескью, к автору «Зерцала» и к другим — к авторам, которых нельзя заподозрить в том, что они незнакомы с нашим строем или являются его врагами. Но я думаю, что одного Гукера могло бы быть достаточно для удовлетворения тех людей, которые, опираясь на него в своей церковной политике, каким-то странным образом склонны отрицать те принципы, на которых он ее основывает. Не делают ли их при этом своими орудиями более хитроумные деятели, чтобы заставить их лить воду на свою мельницу, — об этом им стоило бы получше подумать. Я убежден только в том, что их гражданская политика столь нова, столь опасна и столь разрушительна как для правителей, так и для народа, что, так же как прошедшие века никогда не могли допустить ее проведения, точно так же можно надеяться, что и грядущие времена, освобожденные от наветов этих египетских надсмотрщиков, будут питать отвращение к памяти о подобных гнусных льстецах, которые, поскольку это им было, очевидно, на руку, превращали всякое правление в абсолютную тиранию и хотели бы, чтобы все люди рождались в таком состоянии, какое, по мнению этих низких душ, им подходило, — в рабстве.
240. Здесь, вероятно, будет задан обычный вопрос: «Кто будет судьей и решит, действует ли государь или законодательный орган вопреки оказанному им доверию?» Возможно, что недовольные и злонамеренные люди будут распускать в народе подобные слухи, когда государь будет только лишь пользоваться положенной ему прерогативой. На это я отвечу: народ будет судьей; ибо кому же еще быть судьей и определять, правильно ли поступает его доверен [404] ное лицо или уполномоченный и действует ли он в соответствии с оказанным ему доверием, как не тому, кто уполномочил это лицо и кто должен, так как он его уполномочил, по-прежнему обладать властью отозвать его, если он не оправдал доверия? Если это разумно в случаях, касающихся частных лиц, то почему должно быть иначе в вещах величайшей важности, когда речь идет о благе миллионов и когда также и зло, если ему не воспрепятствовать, несравненно больше, а возмещение очень трудно, дорого и опасно?
241. Но, далее, этот вопрос («кто будет судьей?») не может означать, что судьи вообще нет. Ведь, когда нет суда на земле для разрешения споров между людьми, судьей является господь бог, восседающий на небесах. Только он один воистину есть судия праведный. Но каждый человек является судьей для самого себя как во всех остальных случаях, так и в этом, когда другой поставил себя в состояние войны с ним и когда ему приходится взывать к всевышнему судье, как это сделал Иеффай.
242. Если возникает спор между государем и какими-либо людьми из его народа в таком вопросе, когда закон молчит или является сомнительным, а дело представляет величайшую важность, то я бы считал, что в таком случае самым подходящим третейским судьей должен являться народ в целом. Ведь в тех случаях, когда государю оказано доверие и он не подвластен простым обычным установлениям законов и если какие-либо люди оказываются потерпевшими и считают, что государь действует вопреки оказанному ему доверию или превышает его, то кто же еще является более подходящим судьей, чем народ в целом {который первоначально оказал ему это доверие), чтобы судить о том, насколько далеко оно, по мнению народа, должно было простираться? Но если государь или кто-либо из стоящих у власти отклонит подобный путь разрешения спора, то тогда можно воззвать только к небу. Сила в отношениях между лицами, которые не знают высшей на земле или которая не позволяет обратиться к какому-либо судье на земле, есть, собственно, состояние войны, в коем можно обращаться только к небу; и в таком состоянии потерпевшая сторона сама должна определять, когда является правильным подобное обращение и когда к нему прибегнуть.
243. Заключаем. Та власть, которую каждый отдельный человек передал обществу, когда он вступал в него, никогда не может снова вернуться к отдельным людям, до тех пор пока общество продолжает существовать, но всегда [405] будет оставаться у сообщества, потому что без этого не может быть сообщества, не может быть государства, что противоречило бы первоначальному соглашению. Следовательно, когда общество вручило законодательную власть какому-либо собранию людей, для того чтобы эта власть находилась у них и их преемников, и это собрание имеет право и полномочие назначать таких преемников, то законодательная власть не может вернуться к народу до тех пор, пока существует данный государственный строй. Дело в том, что народ, дав законодательному органу право существовать непрерывно, тем самым передал свою политическую власть этому органу и не может вернуть ее себе. Но если народ ограничил деятельность своего законодательного органа и сделал эту высшую власть в руках какого-либо лица или собрания только временной или если вследствие злоупотреблений лиц, находящихся у власти, они ее утрачивают, то в результате такой утраты или окончания установленного срока эта власть возвращается к обществу, и народ имеет право действовать в качестве верховной власти и продолжать являться законодательным органом, либо создать новую форму законодательной власти, либо, сохраняя старую форму, передать эту власть в новые руки, как сочтет лучшим.
Источник: Локк Дж. Сочинения: В 3 т. М., 1988. Т. 3. С. 262–405; пер. Ю.В. Семенова.