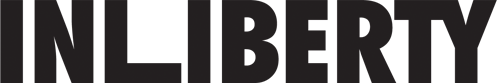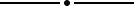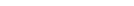С недавних пор финансовая помощь развивающимся странам выделяется избирательно — только тем из них, где проводится «правильная» политика по развитию и укреплению институтов гражданского общества, а не бедным странам вообще, как это было ранее. Примерами такого подхода стали программа администрации Дж. Буша Millennium Challenge Account и новая политика Всемирного банка. Однако есть ли здесь повод для энтузиазма? Иан Васкес подвергает сомнению адекватность и достоверность тех данных, которые лежат в основе отбора стран-реципиентов.
Резюме
Поскольку в прошлом программы помощи развивающимся странам не приводили к желаемым результатам, в последнее время в практике предоставления международной экономической помощи возобладал новый подход.
Согласно этому подходу, помощь бедным странам, которые проводят «правильную» политику по развитию и укреплению институтов гражданского общества, является эффективным механизмом обеспечения экономического роста и борьбы с нищетой. Идея о том, что финансовую помощь следует оказывать только тем бедным странам, которые проводят «правильную» экономическую политику, в корне отличается от традиционной практики, в соответствии с которой помощь направлялась развивающимся государствам независимо от курса, которого они придерживались, или как раз с целью стимулировать экономические реформы. Примерами использования нового селективного подхода к предоставлению экономической помощи являются инициированная президентом Бушем программа Millennium Challenge Account (Инициатива администрации Дж. Буша мл., нацеленная на оказание финансовой помощи развивающимся странам, которые осуществляют надлежащее управление, инвестируют средства в свое общество и проводят рыночные реформы - Примеч. Пер.) и политика Всемирного банка, также призывающего удвоить объем этой помощи.
Тем не менее, для энтузиазма, который вызывает концепция селективной помощи, нет никаких оснований. Селективное предоставление помощи целиком определяется данными Всемирного банка, который на основании собственных исследований решает, какие развивающиеся страны проводят «правильную» политику, а какие — нет. Между тем, адекватность этих данных не подтверждается исследованиями других экономистов. Хотя исследования Всемирного банка оказали огромное влияние на ход дискуссии по этой проблеме, несколько попыток повторить их на основе тех же данных и методики дали совершенно иные результаты.
Предоставление помощи в целях развития только тем странам, где проводится «разумная» экономическая политика и существуют сравнительно эффективные институты, может привести к неоднозначным последствиям. «Наградой» за разумную политику становится экономический рост. Если же добивающиеся его страны получают еще и дополнительное вознаграждение в виде иностранной помощи, это может обернуться теми же результатами, которые мы уже наблюдали на примере традиционных программ помощи: замедлением темпа реформ и экономического развития.
Даже если бы принцип селективности и мог каким-то образом привести к эффективному результату, его практическое применение ограничивается массой препятствий. К примеру, на выделение средств по линии Millennium Challenge Account, несомненно, будут влиять политические соображения, эгоистические интересы бюрократии и чрезмерная опека со стороны Конгресса. Кроме того, преобладание традиционного подхода в большинстве программ помощи развивающимся странам не может не отразиться на планируемых результатах узконаправленных проектов, основанных на принципе селективности.
Введение
Последние полтора года администрация США и Всемирный банк выступают за существенное увеличение объемов международной помощи развивающимся странам[1]. Президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон (Wolfensohn) призывает увеличить такую помощь вдвое по сравнению с ее нынешним совокупным объемом в 50 миллиардов долларов[2]. Подобное увеличение, по мнению авторов этой идеи, позволит к 2015 году выполнить ряд весьма амбиционных задач в мировом масштабе — вдвое сократить бедность, обеспечить равноправие мужчин и женщин и всеобщее начальное образование и гарантировать устойчивое развитие. Президент Джордж Буш предлагает к 2006 году увеличить объем помощи, предоставляемой Соединенными Штатами на двусторонней основе, на 50% по сравнению с нынешним уровнем (около 10 миллиардов долларов). Выделяемые США дополнительные средства должны использоваться на создание программы Millennium Challenge Account. Гранты этой программы будут предоставляться только тем бедным странам, где власти «управляют справедливо, заботятся о благосостоянии народа и поощряют экономическую свободу»[3].
Эта инициатива основывается главным образом на идее о том, что ведомства, занимающиеся выделением такой помощи, извлекли нужные уроки из провала прежних программ, и теперь иностранная помощь позволяет достичь чрезвычайно эффективных результатов, особенно если она будет выделяться только тем бедным странам, которые проводят в целом разумную политику. Всемирный банк утверждает, что его кредиты уже выделяются исключительно по принципу селективности, а потому позволяют весьма эффективно способствовать экономическому росту, борьбе с бедностью и увеличению инвестиций. Что же касается Соединенных Штатов, то там идею создания Millennium Challenge Account поддерживают и консерваторы, и либералы[4].
Этот энтузиазм, однако, ничем не обоснован. Новые идеи о повышении эффективности помощи практически полностью основываются на данных исследований Всемирного банка, чья эмпирическая точность сомнительна[5]. Практические проблемы, связанные с использованием принципа выборочности при выделении помощи, весьма серьезны, а то и вообще непреодолимы. Более того, страны, проводящие «разумную» экономическую политику, добьются экономического роста и без иностранной помощи. Предоставление таким странам помощи на нужды развития может улучшить внешние показатели, но не исключено, что оно будет способствовать и зависимости этих государств от подобного финансирования и замедлению дальнейших реформ, т.е. порождать проблемы, свойственные традиционным программам помощи.
На пути к принципу селективности
Пессимистическое отношение к программам иностранной помощи, порожденное десятилетиями негативного опыта, начало развеиваться в конце 1990-х годов. Провал прежних программ зафиксирован во многих исследованиях. Масштабные денежные вливания не приводили к соответствующему росту благосостояния. Ученые пришли к выводу об отсутствии какой-либо связи между иностранной помощью и экономическим ростом или изменением основных показателей «человеческого развития»[6]. Ведомства, специализирующиеся на вопросах развития, признают, что у стран-реципиентов вырабатывается «зависимость» от иностранной помощи и зачастую она приносит им больше вреда, чем пользы. Так, даже Всемирный банк отмечает, что программы помощи «временами терпят полный провал»[7].
Среди других постулатов, не вызывающих ни у кого возражений, следует назвать и элементарный вывод о том, что помощь, выделяемая странам, проводящим неудачную политику, не только не приводит к экономическому росту, но и препятствует развитию, однако немалая, а то и основная часть иностранной помощи распределяется без учета этого факта[8]. Программы помощи, предварительным условием для которых является изменение экономической политики стран-реципиентов, также доказали свою неэффективность. Специалисты из Всемирного банка выяснили, что «помощь не оказывает системного воздействия на экономический курс»[9], а «почти все кредиты на структурные реформы осваиваются полностью, даже если условия об изменении политики не соблюдаются»[10]. Таким образом, иностранная помощь по сути приводит к замедлению реформ, поскольку помогает правительствам, проводящим неправильную политику, удерживаться у власти[11]. Более того, по мнению специалистов Банка, «предпосылкой реформ становится скорее сокращение, а не увеличение объемов помощи»[12]. Этот вывод вполне соответствует общему положению о том, что главными детерминантами изменения политического курса становятся экономические реалии (зачастую в форме кризиса финансовой политики) и внутренние политэкономические условия в стране. Провал программ помощи обусловливается целым рядом причин: многие из них проанализировал экономист Питер Бауэр (Bauer), давно уже завоевавший репутацию ведущего критика идеи финансовой помощи развитию[13]. Хотя в послевоенные годы критические замечания Бауэра чаще всего игнорировались, сегодня они заслужили признание у специалистов по вопросам развития. Новый подход к распределению средств на нужды развития, основанный на принципе селективности, призван избежать ошибки, выявленные Бауэром и другими учеными; он пользуется популярностью как у сторонников рыночной экономики, так и у практиков, занимающихся проблемами развития. К примеру, в 2000 году Комиссия Мелцера (Meltzer Commission), созданная при Конгрессе США с участием представителей как республиканской, так и демократической партий, рекомендовала международным банкам, специализирующихся на предоставлении помощи в целях развития, учитывать принцип селективности при распределении грантов[14].
Однако идея селективного подхода отнюдь не нова. Лет 20 назад сам Бауэр рекомендовал его в качестве способа «смягчить самые вредные последствия помощи». По его словам, гранты в рамках программ помощи необходимо выделять на «осознанно дифференцированной» основе: «Программы помощи следует выделять только тем правительствам, чья внутренняя и внешняя политика наиболее соответствует целям повышения благосостояния народа и, прежде всего, экономическому развитию страны. Помощь должна направляться правительствам, пытающимся добиться этого с помощью эффективного администрирования, выполнения основополагающих функций государственной власти и либеральной экономической политики… Селективное предоставление помощи на основе этих критериев позволит ограничить свойственную ей тенденцию к политизации, а значит — сократить масштабы и интенсивность политических конфликтов»[15].
Еще в 1960-х годах значение селективного подхода подчеркивали другие деятели, в том числе президент Джон Ф. Кеннеди и сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) Чарльз Линдблом (Lindblom)[16]. Однако лишь в последние годы призывы к увеличению объемов помощи стали подкрепляться однозначными аргументами о перспективах и реальных достижениях программ, основанных на принципе селективности.
Анализ принципа селективности
Утверждения о том, что позитивные результаты селективной помощи подтверждаются практикой, основаны исключительно на исследованиях, которые проводит сам Всемирный банк начиная со второй половины 1990-х. Эти работы можно пересчитать по пальцам, однако на ход дискуссии по этой теме они оказали огромное влияние[17].
Из этих исследований только методика Бернсайда (Burnside) и Доллара (Dollar) может быть использована учеными, не имеющими отношения к Банку, поскольку она основывается на общедоступных данных. Все остальные базируются на информации, предназначенной для служебного пользования сотрудников Всемирного банка и лежащей в основе индекса под названием Оценка институтов и политики страны (Country Policy and Institutions Assessment; CPIA). Данные, используемые для составления CPIA, который рассчитывается начиная с 1974 года и сегодня включает в себя 20 параметров политического развития, сторонним ученым недоступны.
Бернсайд и Доллар исследуют фискальную, монетарную и торговую политику 56 развивающихся стран с 1970 по 1993 год, сопоставляют соответствующие параметры с объемами иностранной помощи, которую получали эти страны в эти годы, и приходят к выводу, что в благоприятной политической среде помощь позитивно влияет на экономический рост. Специалисты Банка объясняют, что в странах, где проводится «правильная» политика, увеличение помощи на 1% от ВВП приводит к устойчивому повышению темпов роста на 0,5%. Кроме того, Бернсайд и Доллар обнаружили, что увеличение помощи тем бедным странам, где политическая среда благоприятна, «оказало бы существенное позитивное воздействие на темпы роста в развивающихся странах». По их мнению, страны, проводившие «правильную» политику, но получавшие помощь в небольших объемах, демонстрировали рост ВВП на душу населения на уровне 2,2%, а в странах с такими же условиями, получавших масштабную помощь, этот показатель составлял 3,7%[18].
Однако результаты, полученные Бернсайдом и Долларом, не подтверждаются выводами другого исследования, недавно опубликованного Уильямом Истерли (Easterly) и его соавторами[19]. Истерли с коллегами воспользовались методологией Бернсайда и Доллара, однако они провели анализ за более длительный период, 1970–1997 годы. Кроме того, они добавили ряд данных за 1970–1993 годы, которые в работе Бернсайда и Доллара отсутствовали. Привлечение новых данных, по словам авторов доклада, позволило сделать следующий вывод: «Мы больше не можем утверждать, что в условиях благоприятной политической среды помощь способствует росту», а экономистам и политическому руководству следует осторожно относиться к общепринятому мнению об эффективности селективного подхода[20].
Истерли с коллегами не объясняют, почему они получили совершенно иные результаты. Однако тому есть целый ряд вероятных объяснений. Период, который рассматривали Бернсайд и Доллар, включает конец 1980-х и начало 1990-х годов: в это время во многих развивающихся странах, в частности в Перу и Аргентине, проводились масштабные реформы, которые поначалу привели к резкому повышению темпов роста. Однако в середине 1990-х годов реформы были прекращены, а потому и рост начал уменьшаться. Парадокс здесь состоит в том, что именно хорошие первоначальные результаты и выделение этим странам помощи, возможно, привели к тому, что их правительства отказались от дальнейших реформ. Подобное объяснение выглядит особенно правдоподобным с учетом общепринятого мнения о том, что толчок реформам дают финансовые затруднения, испытываемые государством. Таким образом, если действие селективного подхода анализировать за более длительный период времени, выясняется, что он может негативно отразиться на процессе реформ и темпах роста.
Другое возможное объяснение результатов, полученных Истерли и его соавторами, заключается в том, что методология Бернсайда и Доллара не позволяет адекватно оценить факторы, создающие благоприятную политическую среду, или в том, что на характер развития существенно влияют иные факторы, труднее поддающиеся количественному исчислению, например, состояние институтов (верховенство закона, гарантии прав собственности и др.). Если это так, то результаты Истерли выглядят вполне логично. Однако эти исследователи подчеркивают, как трудно на практике разработать набор критериев, позволяющих оценить наличие внутренних предпосылок роста.
Исследования Всемирного банка, проведенные после публикации работы Бернсайда и Доллара, основываются на более полном наборе критериев и данных, которые учитываются при составлении индекса CPIA. Используя этот индекс, Колльер (Collier) и Доллар[21] подтверждают сделанный ранее вывод о том, что селективная помощь позволяет существенно увеличить темпы роста. Кроме того, по их мнению, этот подход позволяет серьезно сократить бедность. В работах Колльера с соавторами[22], а также Колльера и Доллара[23] эта концепция получает дальнейшее развитие. В них утверждается, что в 1990-х годах, когда официальная помощь на нужды развития стала предоставляться на селективной основе, с учетом благоприятности политической среды, ее эффективность резко повысилась. Через свое подразделение, контролирующее программы помощи на предварительных условиях, — Международную ассоциацию развития (International Development Association; IDA) — Всемирный банк в 1990-х годах перешел от либеральной трактовки принципа селективности к более жесткой. Как утверждают авторы этих работ, на каждый доллар, выделенный в рамках IDA странам, проводящим «правильную» политику, приходится два доллара дополнительных инвестиций, а общее ужесточение принципа селективности при распределении помощи в 1990-х годах приводит к тому, что каждый дополнительный миллиард долларов этой помощи позволяет избавить от нищеты 284 000 человек. Специалисты Банка завершают свой анализ следующим выводом: учитывая, что помощь теперь отличается высокой эффективностью, а качество экономической политики развивающихся стран в целом повысилось, существенное увеличение объемов помощи становится насущной задачей.
К сожалению, поскольку данные, на основе которых определяется индекс CPIA, недоступны сторонним ученым, полностью оценить качество проведенных Банком исследований невозможно. Тем не менее по ряду причин воспринимать их следует скептически. Экономист Уильям Истерли, ранее работавший во Всемирном банке, используя те же самые данные не смог подтвердить вывод этих исследований об ужесточении селективного подхода[24]. Кроме того, он не обнаружил «доказательств наличия серьезной позитивной зависимости между правильной политикой… и потоками иностранной помощи ни в 1990-х годах, ни в любой иной период»[25]. Более того, Истерли отмечает: если утверждения Банка об эффективной борьбе с бедностью соответствуют действительности, на то, чтобы увеличить доход одного человека до уровня, превышающего 365 долларов, в рамках программ помощи требуется истратить 3521 доллар[26].
Кроме того, Банк, судя по всему, занимается сомнительной манипуляцией с имеющимися данными. По словам Истерли, Всемирный банк получил упомянутые результаты относительно ужесточения принципа селективности в программах IDA за счет исключения из выборки Индии и Индонезии, а также произвольного определения стран, проводящих «неправильную» политику (по методике Банка таковыми признаются государства, входящие по рейтингу CPIA в нижнюю треть списка стран, имеющих права на кредиты по линии IDA)[27]. Учитывая, что в странах, которым предоставляются такие кредиты, политическая среда наименее благоприятна, Банк проявил непонятное великодушие, классифицировав лишь треть из них как государства, проводящие «неправильную» экономическую политику.
Другая проблема заключается в том, что сами рейтинги CPIA представляют собой довольно субъективный инструмент оценки политической среды[28]. Возможно, именно этим объясняется тот удивительный факт, что из 114 бедных стран, по которым в 1998 году составлялись рейтинги CPIA, в 55 государствах — это почти половина списка — политическая среда была признана благоприятной или очень благоприятной[29]. Почему же тогда количество наиболее вероятных кандидатов на получение помощи Millennium Challenge Account в первые годы работы этой программы не превышает 20 государств? Среди стран, где ситуация по индексу CPIA оценивается как «благоприятная», оказались Индия и Сенегал, а в число государств с «очень благоприятной» политической средой попали Аргентина и Бразилия. Однако в других рейтингах по этому показателю Индия и Сенегал оцениваются гораздо строже: в списке из 123 стран, в котором Институт Фрейзера (Fraser Institute) ежегодно представляет результаты своего анализа уровня экономической свободы, они постоянно оказываются во второй половине[30]. Что же касается Бразилии и Аргентины, то они, помимо прочего, в последующие годы пережили неблагоприятное изменение экономического курса и кризисы. (В 1998 году — том же году, когда по рейтингу CPIA ситуация в ней была признана «очень хорошей», — Международный научный фонд предоставил Бразилии чрезвычайный кредит в безуспешной попытке предотвратить девальвацию ее национальной валюты.)
Последние два примера — лишний повод поставить под сомнение эффективность селективного подхода в целом. Во второй половине 1990-х Аргентина и Бразилия накопили избыточную задолженность. Если принцип селективности приводит к увеличению финансирования страны, неспособной обуздать рост внешнего долга, не желающей продолжать реформы, а то и допускающей «откат назад» в области экономической политики, получается, что такая помощь действительно может играть негативную роль[31].
Я столь подробно останавливаюсь на недостатках эмпирических исследований Всемирного банка по двум причинам. Во-первых, однозначные выводы этих исследований оказали огромное влияние на обсуждение проблем, связанных с помощью. Именно с этим влиянием связана созданная администрацией Буша программа Millennium Challenge Account, хотя и следует признать, что она проработана лучше, чем «селективные» проекты Всемирного банка[32]. Во-вторых, проблемы, связанные с селективным подходом Банка, не ограничиваются сферой планирования. Даже тщательнейшим образом разработанная программа может препятствовать развитию, если в ее основе лежит селективный подход.
Кстати, в ходе политических дебатов по поводу Millennium Challenge Account большое внимание уделялось техническим факторам, позволяющим повысить эффективность помощи, выделяемой в рамках этой программы. Говорилось, в том числе, о разработке прозрачных, поддающихся четкому измерению и максимально объективных критериев отбора, необходимости оценивать успех проекта и возможность получения страной дальнейших грантов по результатам использования вложенных средств, а не по их объему, об анализе эффективности помощи в рамках Millennium Challenge Account независимым органом. Благодаря подобным механизмам Millennium Challenge Account несомненно будет работать лучше, чем программы Всемирного банка, основанные на том же принципе.
Но если технические усовершенствования действительно способны повысить эффективность селективной помощи, предоставляемой, как правило, странам, где уже наблюдается экономический рост, из этого не следует делать вывод, что принцип селективности станет автоматически содействовать реформам и росту в странах-реципиентах. Какие-то государства, соответствующие минимальным критериям отбора, предпочтут осуществлять реформы ровно в тех масштабах, что позволяют им и дальше получать помощь. Этот вариант, пожалуй, даже хуже всех прочих: лишенная помощи развивающаяся страна оказывается вынуждена проводить более масштабные реформы, чтобы добиться темпов роста, аналогичных тем, на которые какому-нибудь ее соседу позволяет выйти предоставление помощи по селективному принципу, сопровождающееся менее радикальными изменениями экономического курса. Более вероятный сценарий заключается в том, что радикальные реформы в развивающейся стране не столько мотивируются стремлением получить помощь, сколько обусловливаются внутриполитической и экономической ситуацией. Если селективная помощь позволяет в краткосрочной перспективе ускорить темпы экономического роста, то в долгосрочной перспективе она может снизить шансы на продолжение реформ, поскольку необходимость в дальнейших изменениях политического курса уменьшается. Такое развитие событий рано или поздно негативно отразится и на росте, и на реформах.
Подобная интерпретация учитывает тот факт, что из-за политэкономических особенностей, свойственных многим развивающимся странам, сам по себе экономический рост чреват замедлением реформ, что процесс совершенствования политического курса и институциональной среды в бедных странах не может проходить гладко, а международные доноры не должны чрезмерно «вознаграждать» реформаторов за успехи. Оценка качества экономической политики и институтов той или иной страны — дело, естественно, непростое. Несомненно, для такой оценки необходимо опираться на объективные индикаторы, например, ставки тарифов. Однако в ходе анализа таких факторов, как рост или снижение уровня политической стабильности или законности, субъективности, конечно, не избежать. Если предположить, что селективный подход действительно влияет на экономический рост и инвестиции таким образом, как утверждают его сторонники, то, в любом случае, всякого рода призывы к централизации процесса оценки этих процессов, особенно в государственных структурах, ведающих помощью другим государствам, следует воспринимать как тревожный признак[33].
Практические затруднения
Эффективность селективного подхода к помощи развивающимся странам подрывают и две серьезные проблемы практического свойства, а именно политизация решений о выделении помощи и сохраняющееся преобладание программ, построенных по традиционному принципу. Трудно представить, к примеру, что даже самая тщательно разработанная программа в рамках Millennium Challenge Account может быть полностью свободна от воздействия политических соображений. Решения о предоставлении финансовой помощи в рамках Millennium Challenge Account таким странам как Турция, Пакистан, Россия или Колумбия, — которые имеют стратегически важное значение для Соединенных Штатов, — могут приниматься не только по принципу максимального эффекта такой помощи с точки зрения развития, но и под влиянием других факторов[34]. Можно ожидать, что Millennium Challenge Corporation, которой поручено руководить программой Millennium Challenge Account, будет, как и любое государственное ведомство, стараться получить в свое распоряжение максимум ресурсов независимо от того, насколько эффективны ее действия. Поскольку финансированием Millennium Challenge Corporation будет заниматься Конгресс, ради удовлетворения требований конгрессменов ей, возможно, придется в чем-то поступаться своими целями. Всем известно, что другие программы помощи постоянно страдают от чрезмерной опеки Конгресса.
Хотя, согласно принципу селективности, помощь в целях развития, предоставляемая по традиционным принципам, является неэффективной и даже вредной, прежние подходы в этой сфере по-прежнему превалируют. Ни Всемирный банк, ни Соединенные Штаты не сократили существенным образом свои традиционные программы помощи бедным странам. Более того, несмотря на все заявления Всемирного банка об ужесточении селективного подхода в деятельности IDA в 1990-е годы, он же одновременно сообщает, что страны, проводящие неверную экономическую политику, сегодня получают больше средств по линии IDA на душу населения (2,3 доллара), чем в 1990 году (2 доллара)[35]. Средства Millennium Challenge Account также станут выделяться дополнительно к тем 10 миллиардам долларов в год, которые Вашингтон уже расходует на помощь экономическому развитию других стран. (Агентство США по международному развитию не планируется реформировать, сокращать или упразднять.) Уже по этой причине нельзя утверждать, что создание программы Millennium Challenge Account позволит улучшить общую ситуацию.
Более того, планируемый эффект от любых грантов Millennium Challenge Account будет снижаться из-за выделения финансовой помощи на нужды развития из других источников. Все 115 стран, входящих в список возможных кандидатов на финансирование в рамках Millennium Challenge Account в первые три года работы программы, уже получают помощь на нужды развития от других ведомств, причем порой в значительных объемах. Так, более 80% из этих государств числятся среди реципиентов помощи по линии IDA[36]. При наличии столь масштабного финансирования из традиционных источников трудно поверить, что программа Millennium Challenge Account сможет, как утверждают ее сторонники, существенно повлиять на сложившуюся ситуацию.
Заключение
Таким образом, энтузиазм, который в последнее время проявляют столь многие в отношении программ помощи зарубежным странам, ничем не оправдан. Он основывается на спорных утверждениях относительно эффективности этих программ и сомнительном подходе к проблеме развития как таковой. Политизация и преобладание многочисленных традиционных источников помощи неизбежно ослабит эффект от усилий США по созданию «хорошо спланированной» программы на основе селективного подхода. Любое увеличение помощи зарубежным странам на основе этого принципа станет еще одной главой в ее, увы, не слишком славной истории.
* Настоящее исследование представляет собой расширенный вариант доклада, с которым я выступил на 78-й ежегодной конференции Западной экономической ассоциации (Western Economic Association) в Денвере (штат Колорадо) 14 июля 2003 года. Благодарю Джона Уэлборна (Welborn) за помощь в сборе материалов.
Впервые: The New Approach to Foreign Aid: Is the Enthusiasm Warranted? // Cato Foreign Policy Briefing Paper. № 79 (2003).