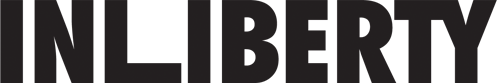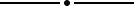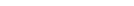Глава I
Введение
Предмет моего исследования не так называемая свобода воли, столь неудачно противопоставленная доктрине, ложно именуемой доктриною философской необходимости, а свобода гражданская или общественная, свойства и пределы той власти, которая может быть справедливо признана принадлежащей обществу над индивидуумом. Вопрос этот редко ставился и едва ли даже когда-либо рассматривался в общих его основаниях, но тем не менее он был присущ всем практическим вопросам нашего времени, имел сильное влияние на их практическое решение, и скоро, вероятно, наступит время, когда он будет признан самым жизненным вопросом будущего. Собственно говоря, это вопрос не новый, — можно даже сказать, что он, почти с самых отдаленных времен, в некотором смысле, разделял людей; он на той ступени прогресса, на которую в настоящее время вступила наиболее цивилизованная часть человечества, он представляется при совершенно новых условиях, и потому требует совершенно иного и более основательного рассмотрения.
Борьба между свободой и властью есть наиболее резкая черта в тех частях истории, с которыми мы всего ранее знакомимся, а в особенности в истории Рима, Греции и Англии. В древние времена борьба эта происходила между подданными, или некоторыми классами подданных, и правительством. Тогда под свободой разумели охрану против тирании политических правителей, думая (за исключением некоторых греческих демократий), что правители, по самому положению своему необходимо должны иметь свои особые интересы, противоположные интересам управляемых. Политическая власть в те времена принадлежала обыкновенно одному лицу, или целому племени, или касте, которые получали ее или по наследству, или вследствие завоеваний, а не вследствие желания управляемых, — и управляемые, обыкновенно, не осмеливались, а может быть и не желали, оспаривать у них этой власти, хотя и старались оградить себя всевозможными мерами против их притеснительных действий, — они смотрели на власть своих правителей, как на нечто необходимое, но и в то же время в высшей степени опасное, как на орудие, которое могло быть одинаково употреблено и против них, как и против внешних врагов. Тогда признавалось необходимым существование в обществе такого хищника, который был бы довольно силен, чтобы сдерживать других хищников и охранять от них слабых членов общества; но так как и этот царь хищников был также не прочь пользоваться за счет охраняемого им стада, то вследствие этого каждый член общины чувствовал себя в необходимости быть вечно настороже против его клюва и когтей. Поэтому в те времена главная цель, к которой направлялись все усилия патриотов, состояла в том, чтобы ограничить власть политических правителей. Такое ограничение и называлось свободой. Эта свобода достигалась двумя различными способами: или, во-первых, через признание правителем таких льгот, называвшихся политическою свободой или политическим правом, нарушение которых со стороны правителя считалось нарушением обязанности и признавалось законным основанием к сопротивлению и общему восстанию; или же, во-вторых, через установление конституционных преград. Этот второй способ явился позднее первого; он состоял в том, что для некоторых наиболее важных действий власти требовалось согласие общества или же какого-нибудь учреждения, которое считалось представителем общественных интересов. В большей части европейских государств политическая власть должна была более или менее подчиниться первому из этих способов ограничения. Но не так было со вторым способом, и установление конституционных — или же там, где они существовали, улучшение их, — стало повсюду главною целью поклонником свободы. Вообще либеральные стремления не шли далее конституционных ограничений, пока человечество довольствовалось тем, что противопоставляло одного врага другому и соглашалось признавать над собой господина, с условием только иметь более или менее действительные гарантии против злоупотребления им своей властью.
Но с течением времени в развитии человечества наступила наконец такая эпоха, когда люди перестали видеть неизбежную необходимость в том, чтобы правительство было властью, независимою от общества, имеющего свои особые интересы, различные от интересов управляемых. Признано было за лучшее, чтобы правители государства избирались управляемыми и сменялись по их усмотрению. Установилось мнение, что только этим путем и можно предохранить себя от злоупотреблений власти. Таким образом прежнее стремление к установлению конституционных преград заменилось, мало-помалу, стремлением к установлению таких правительств, где бы власть была в руках выборных и временных правителей, — и к этой цели направились все усилия народной партии повсюду, где только такая партия существовала. Так как вследствие этого борьба за свободу утратила прежнее свое значение борьбы управляемых против правителей и стала борьбой за установление таких правительств, которые бы избирались на определенное время самими управляемыми, то при этом возникла мысль, что ограничение власти вовсе не имеет того значения, какое ему приписывают, что оно необходимо только при существовании таких правительств, которых интересы противоположны интересам управляемых, — что для свободы нужно не ограничение власти, а установление таких правителей, которые бы не могли иметь других интересов и другой воли, кроме интересов и воли народа, а при таких правителях народу не будет никакой надобности в ограничении власти, потому что ограничение власти было бы в таком случае охранением себя от своей собственной воли: не будет же народ тиранить сам себя. Полагали, что имея правителей, которые перед ним ответственны и которых он может сменять по своему усмотрению он может доверить им власть без всякого ограничения, так как эта власть будет в таком случае не что иное, как его же собственная власть, только известным образом концентрированная ради удобства. Такое понимание, или правильно сказать, такие чувства были общи всему последнему поколению европейского либерализма, и на континенте Европы они преобладают еще и до сих пор. Там до сих пор еще встречаются только, как блистательное исключение, также политические мыслители, которые бы признавали существование известных пределов, далее которых не должна простираться правительственная власть, если только правительство не принадлежит к числу таких, каких, по их мнению, и существовать вовсе не должно. Может быть такое направление еще и теперь господствовало бы также и у нас, в Англии, если бы не изменились те обстоятельства, которые его одно время поддерживали.
Успех нередко разоблачает такие пороки и недостатки, которые при не-успехе легко укрываются от наблюдения: это замечание равно применимо не только к людям, но и к философским и политическим теориям. Мнение, что будто народ не имеет никакой надобности ограничивать свою собственную власть над самим собою, — такое мнение могло казаться аксиомой, пока народное правление существовало только, как мечта, или как предание давно минувших дней. Мнение это не могло поколебать и такие необычайные события, выходящие из обыкновенного порядка вещей, как некоторые из тех, которыми ознаменовалась французская Революция, так как эти события были делом только немногих, захвативших в свой руки власть, и виноваты в них были не народные учреждения, а тот аристократический и монархический деспотизм, который вызвал собою столь страшный конвульсивный взрыв. Но когда образовалась обширная демократическая республика и заняла место в международной семье, как один из самых могущественных ее членов, тогда избирательное и ответственное правительство стало предметом наблюдения и критики, как это бывает со всяким великим фактом. Тогда заметили, что подобные фразы, как самоуправление и власть народа над самим собою, не совсем точны. Народ, облеченный властью, не всегда представляет тождество с народом, подчиненным этой власти, и так называемое самоуправление не есть такое правление, где бы каждой управлял сам собою, а такое, где каждый управляется всеми остальными. Кроме того, воля народа на самом деле есть не что иное, как воля наиболее многочисленной или наиболее деятельной части народа, т.е. воля большинства или тех, кто успевает заставить себя признать за большинство, — следовательно, народная власть может иметь побуждения угнетать часть народа, и поэтому против ее злоупотреблений также необходимы меры, как и против злоупотреблений всякой другой власти. Стало быть, ограничение правительственной власти над индивидуумом не утрачивает своего значения и в том случае, когда облеченные властью ответственны перед народом, т.е. перед большинством народа. Этот взгляд не встретил возражений со стороны мыслителей и нашел сочувствие в тех классах европейского общества, которых действительные или мнимые интересы не сходятся с интересами демократии, поэтому он распространился без всякого затруднения и в настоящее время в политических умозрениях «тирания большинства» обыкновенно включается в число тех зол, против которых общество должно быть настороже.
Но мыслящие люди сознают, что когда само общество, т.е. общество коллективно, становится тираном по отношению к отдельным индивидуумам, его составляющим, то средства его к тирании не ограничиваются теми только средствами, какие может иметь правительственная власть. Общество может приводить и приводит само в исполнение свои собственные постановления, и если оно делает постановление неправильное или такое, посредством которого вмешивается в то, во что не должно вмешиваться, тогда в этом случае тирания его страшнее всевозможных политических тираний, потому что хотя она и не опирается на какие-нибудь крайние уголовные меры, но спастись от нее гораздо труднее, — она глубже проникает во все подробности частной жизни и кабалит самую душу.
Вот почему недостаточно иметь охрану только от правительственной тирании, но необходимо иметь охрану и от тирании господствующего в обществе мнения или чувства, — от свойственного обществу тяготения, хотя и не уголовными мерами, насильно навязывать свои идеи и свои правила тем индивидуумам, которые с ним расходятся в своих понятиях, — от его наклонности не только прекращать всякое развитие таких индивидуальностей, которые не гармонируют с господствующим направлением, но, если возможно, то и предупреждать их образование и вообще сглаживать все индивидуальные особенности, вынуждая индивидуумов сообразовать их характеры и известными образцами. Есть граница, далее которой общественное мнение не может законно вмешиваться в индивидуальную независимость; надо установить эту границу, надо охранить ее от нарушений, — это также необходимо, как необходима охрана от политического деспотизма.
Что такая граница необходима, это бесспорно: но практический вопрос, как провести эту границу, как согласить личную независимость и общественный контроль, — этот вопрос почти еще не тронут. Все, что делает для человека ценным его существование, условливается наложением ограничений на свободу действий других людей. Следовательно, необходимо, чтобы закон, — а в тех случаях, которые не могут быть предметом закона, необходимо, чтобы общественное мнение обязывало людей исполнять известные правила поведения. Но какие же должны быть эти правила, — вот в чем самый важный для людей вопрос, а между тем, за весьма немногими только исключениями, это один из тех вопросов, в разрешении которых сделано наименее успеха. Не найдется двух таких Столетий и едва ли найдутся две такие страны, которые бы решали этот вопрос одинаково. Мало того: решение одного столетия делается обыкновенно предметом удивления для другого столетия, а равно решение одной страны — для другой. А между тем, если мы остановимся на отношении к этому вопросу людей известной эпохи и известной страны, то мы увидим, что решение его представлялось для них столь же мало затруднительным, как если бы он и не был вопросом и был бы уже раз и навсегда единогласно порешен человечеством. Правила, которые у них господствовали, казались им несомненными, очевидными сами по себе; эта почти всеобщая иллюзия представляет собой один из примеров магического влияния привычки, которая не есть только, как говорит пословица, вторая натура, но постоянно ошибочно принимается за первую. Действие привычки устраняет в людях всякое сомнение относительно непреложности господствующих правил поведения, и действие это тем более сильно, что люди обыкновенно не чувствуют потребности в каких-либо доказательствах для убеждения себя в истинности этих правил или для оправдания их перед другими. В тех предметах, к которым обыкновенно относятся эти правила, свидетельство наших собственных чувств стоит всевозможных доказательств и делает все доказательства бесполезными, — таково общераспространенное мнение, которое поддерживают даже люди, имеющие притязание быть философами. Каждому человеку присуще желание, чтобы другие люди поступали таким же образом, как он сам поступает, и все сочувственные ему люди имеют в этом отношении одинаковое с ним желание, — вот что в действительности руководит мнением людей касательно правил поведения. Конечно, люди не сознают, чтобы их мнения о правилах поведения условливались их личным вкусом; но, тем не менее, мы не можем не признать делом личного вкуса такие мнения, которые в подтверждение своей истинности не приводят никаких доводов, или же, вместо всяких доводов, ссылаются на то, что так думают и другие люди, тогда как это обстоятельство, что известное мнение разделяется многими людьми, нисколько не доказывает истинности мнения, а свидетельствует только, что известный вкус принадлежит не одному, а многим индивидуумам. Для людей, не выходящих из общего уровня, их личных вкус, когда его разделяют другие люди, составляет не только совершенно достаточное доказательство, но и единственную основу их понятий о нравственности, которые не основаны на религии, и служит для них даже главным истолкователем тех нравственных правил, которые дает им религия. Следовательно, мнение людей о том, что похвально и что предосудительно, находится в зависимости от тех разнообразных причин, которые влияют на образование в человеке того или другого желания касательно поведения других людей, и которые в этом случае столь же многочисленны, как и вообще при образовании всякого рода желаний. Причины эти заключаются иногда в степени умственного развития людей, а иногда в их предрассудках и предубеждениях, — часто в их социальных стремлениях, а не редко и в стремлениях антисоциальных, в зависти, гордости, презрении, — но большею же частью в их законных или незаконных личных целях, в тех желаниях и опасения, которые возбуждаются в них их личными интересами. Во всех обществах, где один класс господствует над другими, большая часть общественной нравственности условливается интересами господствующего класса и его сознанием своего превосходства. Так, в отношениях между спартанцами и и лотами, между плантаторами и неграми, между правителями и управляемыми, между благородными и неблагородными, между мужчинами и женщинами большая часть понятий истекает из интересов и чувств господствующего класса, и эти понятия в свою очередь воздействуют на нравственные понятия членов господствующего класса касательно их отношений между собою. Напротив, в тех обществах, где класс, некогда господствовавший, утратил свое преобладание, или где его преобладание стало непопулярным, там нерасположение к этому преобладанию становится нередко главным условием, влияющим на нравственные чувства людей. Другой принцип, играющий важную роль в образовании правил поведения, налагаемых на людей законом или общественным мнением, состоит в раболепстве, в желании угодить своим временным господам или богам. Это раболепство, хотя по существу своему и есть чувство совершенно эгоистическое, но тем не менее оно не имеет в себе ничего лицемерного, — оно порождает в людях антипатии, совершенно искренние, — этому-то чувству люди и обязаны были своею способностью жечь колдунов и еретиков. Кроме того, в направлении нравственных чувств, при всех этих, более низких по своему достоинству, влияниях, всегда имело свою долю участие, и довольно значительную, также и то, что составляло очевидный общественный интерес. Правда, влияние общественного интереса на нравственные понятия обыкновенно были не ради самого этого интереса, не истекало из сознания людьми того значения, какое общественный интерес должен иметь по отношению к их поступкам, а было только следствием тех симпатий или антипатий, которые этот интерес порождал в людях, и хотя стремления этих симпатий или антипатий не имели ничего общего или имели весьма мало общего с общественными интересами, но это нисколько не умаляло их влияния на установление тех или других нравственных правил.
Итак, симпатии и антипатии общества или наиболее могущественной части общества, — вот что в действительности главным образом определяет, какие именно правила обязаны соблюдать индивидуумы под страхом, в случае несоблюдения их, навлечь на себя преследование со стороны закона или со стороны общественного мнения. Люди, стоявшие выше общего уровня по своему умственному развитию и по своим чувствам, обыкновенно оставляли неприкосновенный самый принцип, на котором основывался такой порядок вещей, хотя и входили с ним в столкновение в некоторых частных его применениях. Их занимал вопрос о том, что должно быть для общества предметом симпатии и антипатии, а не о том, должны ли общественные симпатии и антипатии быть законом для индивидуумов. Они не вступались за еретиков, не действовали во имя свободы, а стремились только к тому, чтобы изменить те господствующие чувства, которые не были согласны с их личными чувствами. Только по религиозному вопросу некоторые индивидуумы становились по временам на более высшую точку зрения и упорно отстаивали ее: это обстоятельство весьма поучительно во многих отношениях, а не только в том отношении, что представляет собой наиболее разительный пример погрешимости так называемого нравственного чувства, так как odium theologicum в людях, искренно набожных, составляет самое непреложное проявление этого чувства. Те, которые первые свергли с себя иго так называемой всемирной церкви, были вообще также мало расположены допускать различие в религиозных мнениях, как и сама эта церковь. Но когда, наконец, после ожесточенной борьбы, не доставившей решительного торжества ни одной из борющихся сторон, различные церкви или секты вынуждены были ограничить свои желания сохранением того, что уже имели, тогда меньшинство, утратив надежду сделаться большинством, увидело себя в необходимости направить все свои усилия только к тому, чтобы те, которых оно не успело обратить в свою веру, не препятствовали ему исповедывать свои особые религиозные мнения. Итак, власть общества над индивидуумом вызывала против себя прямой протест почти исключительно только в деле религии, и только в религиозной сфере права индивидуума по отношению к обществу были заявлены как принцип. Большая часть великих писателей, которым мы и обязаны той религиозной свободой, какую только имеем, признавали право совести неотъемлемым правом человека и решительно отрицали, чтобы человек был обязан кому-либо отчетом в своих религиозных верованиях. Но людям вообще столь свойственна нетерпимость во всем, что близко их сердцу, что едва ли когда-нибудь религиозная свобода существовала иначе, как благодаря религиозной индифферентности, которая не любит, чтобы ее покой нарушали какими-нибудь богословскими спорами. По общему понятию религиозных людей, едва ли не всех без исключения, и даже в тех странах, которые пользуются наибольшей религиозной свободой, терпимость в деле религии должна быть допускаема не иначе, как с известными ограничениями. По понятию одних может быть терпимо разномыслие по вопросам, касающимся церковного управления, но никак не разномыслие по догме; по понятию же других могут быть терпимы всякого рода иноверцы, но только не паписты и не унитарии; третьи признают терпимыми все иноверия, которые не отрицают откровения, и только немногие идут далее этого и ставят условием терпимости веру в Бога и в будущую жизнь. Везде, где только большинство проникнуто искренним, сильным религиозным чувством, там оно почти нисколько не поступилось своими притязаниями за исключительное господство.
В Англии, вследствие некоторых особенностей ее политической истории, хотя иго общественного мнения может быть и тяжелее, но зато иго закона легче, чем в какой-либо другой стране Европы; там существует довольно сильное нерасположение к всякого рода вмешательству законодательной или исполнительной властей в частную жизнь, но это происходит не столько вследствие уважения к индивидуальной независимости, сколько вследствие старой привычки смотреть на правительство, как на представителя интересов, противоположных интересам общества. Большинство английского общества еще не дошло до сознания, что правительственная власть есть его собственная власть и что мнения правительственные суть его собственные мнения. Когда оно дойдет до этого сознания, то свобода индивидуума по всей вероятности в такой же степени будет терпеть от правительственного вмешательства, в какой в настоящее время терпит от вмешательства общественного мнения. И теперь англичане готовы всегда встретить сильным отпором всякую попытку со стороны закона контролировать индивидуумов по таким предметам, по которым они привыкли стоять вне всякого контроля; но при этом они нисколько не разбирают, действительно ли известный предмет должен или не должен подлежать легальному контролю, и вследствие этого нерасположение их к правительственному вмешательству, само по себе весьма похвальное, хотя часто и применяется кстати, но часто также применяется и совершенно невпопад. У них нет принципа, которым бы они оценивали правильность или неправильность правительственного вмешательства, все их суждения в этом случае совершенно произвольны, — каждый судит по своим личным наклонностям. Одни охотно поощряют правительство на всякое дело, если только видят, что правительство в этом случае может принести пользу или устранить вред, — другие же предпочитают лучше перенести зло, чем расширять сферу правительственной деятельности. Таковы два главных направления, — и когда возникает вопрос о правительственном вмешательстве по какому-нибудь частному случаю, одни становятся за вмешательство, другие — против, смотря по тому, которого из этих направлений они придерживаются; или же смотря по интересу, какой возбуждает в них тот предмет, на которых предполагается обратить правительственную деятельность; или же смотря по тому, ожидают ли от правительства, что оно поступит именно так, как того желают, или же поступит иначе; но редко, чтобы суждения в этом случае основывались на твердо установившемся мнении: должен ли известный предмет подлежать правительственному вмешательству или не должен. По неимению принципа, который бы руководил их суждением, как та, так и другая стороны часто впадают в заблуждение: одни нередко обращаются к правительственному вмешательству, когда этого вовсе не следует, а другие нередко осуждают это вмешательство, когда оно вовсе не заслуживает осуждения.
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы установить тот принцип, на котором должны основываться отношения общества к индивидууму, т.е. на основании которого должны быть определены как те принудительные и контролирующие действия общества по отношению к индивидууму, которые совершаются с помощью физической силы в форме легального преследования, так и те действия, которые заключаются в нравственном насилии над индивидуумом чрез общественное мнение. Принцип этот заключается в том, что люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради самосохранения, что каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей, — личное же благо самого индивидуума, физическое или нравственное, не составляет достаточного основания для какого бы то ни было вмешательства в его действие. Никто не имеет права принуждать индивидуума что-либо делать, или что-либо не делать, на том основании, что от этого ему самому было бы лучше, или что от этого он сделался бы счастливее, или наконец, на том основании, что, по мнению других людей, поступить известным образом было бы благороднее и даже похвальнее.
Все это может служить достаточным основанием для того, чтобы поучать индивидуума, уговаривать, усовещивать, убеждать его, но никак не для того, чтобы принуждать его или делать ему какое-нибудь возмездие за то, что он поступил не так, как того желали. Только в том случае дозволительно подобное вмешательство, если действия индивидуума причиняют вред кому-либо.
Власть общества над индивидуумом не должна простираться далее того, насколько действия индивидуума касаются других людей; в тех же своих действиях, которые касаются только его самого, индивидуум должен быть абсолютно независим над самим собою, — над своим телом и духом он неограниченный господин.
Едва ли есть надобность оговаривать, что под индивидуумом я разумею в этом случае человека, который находится в полном обладании своих способностей, и что высказанный мною принцип не применим, конечно, к детям и малолетним и вообще к таким людям, которые по своему положению требуют, чтоб о них заботились другие люди и охраняли их только от того зла, какое могут им сделать другие, но и от того, какое они могут сделать сами себе. По тем же причинам мы должны считать этот принцип равно неприменимым и к обществам, находящимся в таком состоянии, которое справедливо может быть названо состоянием младенческим. В этом младенческом состоянии обществ обыкновенно встречаются столь великие препятствия для прогресса, что едва ли и может быть речь о предпочтении тех или других средств к их преодолению, и в этом случае достижение прогресса может оправдывать со стороны правителя такие действия, которые не согласны с требованиями свободы, потому что в противном случае всякий прогресс, может быть, был бы совершенно недостижим. Деспотизм может быть оправдан, когда идет дело о народах варварских и когда при этом его действия имеют целью прогресс и на самом деле приводят к прогрессу.
Свобода не применима как принцип при таком порядке вещей, когда люди еще не способны к саморазвитию путем свободы; в таком случае самое лучшее, что они могут сделать для достижения прогресса, это безусловно повиноваться какому-нибудь Акбару или Карлу Великому, если только так будут счастливы, что в среде их найдутся подобные личности.
Но как скоро люди достигают такого состояния, что становятся способны развиваться через свободу (а такого состояния давно уже достигли все народы, которых может касаться наше исследование), тогда всякое принуждение, прямое или косвенное, посредством преследования или кары, может быть оправдано только как необходимое средство, чтобы оградить других людей от вредных действий индивидуума, но не как средство сделать добро самому тому индивидууму, которого свобода нарушается этим принуждением.
Здесь кстати заметить, что я не пользуюсь для моей аргументации теми доводами, которые мог бы заимствовать из идеи абстрактного права, предполагающей право совершенно независимым от пользы. Я признаю пользу верховным судьей для разрешения всех этических вопросов, т.е. пользу в обширном смысле, ту пользу, которая имеет своим основанием постоянные интересы, присущие человеку, как существу прогрессивному. Я утверждаю, что эти интересы оправдывают подчинение индивидуума внешнему контролю только по таким его действиям, которые касаются интересов других людей. Если кто-либо совершит поступок, вредный для других, то a prima facie подлежит или легальной каре, или же общественному осуждению, если легальная кара в данном случае неудобоприменима. Индивидуум может быть справедливо принуждаем совершать некоторые положительные действия ради пользы других людей, так, например, свидетельствовать в суде, принимать известную долю участия в общей защите или в каком-либо общем деле, необходимом для интересов того общества, покровительством которого он пользуется, совершать некоторые добрые дела, например, в некоторых случаях спасти жизнь своего ближнего или оказать покровительство беззащитному против злоупотреблений сильного; все это такого рода действия, которые индивидуум обязан совершать, и за несовершение которых он может быть совершенно правильно подвергнут ответственности перед обществом.
Человек может вредить другим не только своими действиями, но также и своим бездействием: в обоих случаях он ответствен в причиненном зле, но только привлечение к ответу в последнем случае требует большей осмотрительности, чем в первом.
Делать человека ответственным за то, что он причинил зло, — это есть общее правило; делать же его ответственным за то, что он не устранил зла, — это уже не правило, а, говоря сравнительно, только исключение. Но много таких случаев, которые по своей очевидности и по своей важности совершенно оправдывают подобное исключение. Во всем, что так или иначе касается других людей, индивидуум де-юре ответствен или прямо перед теми, чьи интересы затронуты, или же перед обществом, как их охранителем.
Нередко случается, что индивидуум по совершенно основательным причинам не подвергается никакой ответственности за причиненное им зло; но причины эти не в том заключаются, чтоб индивидуум действительно не должен был подлежать ответственности в данном случае, а проистекают из соображений совершенно иного рода. Так, например, случается, когда контроль общества оказывается недействительным и даже вредным, и люди обыкновенно поступают лучше, если предоставлены самим себе и освобождены от всякого контроля, — или когда оказывается, что контроль общества ведет за собой другое зло, еще большее, чем то, которое желательно предупредить. Но когда подобного рода причины препятствуют подвергать индивидуума ответственности за сделанное им зло, то в таких случаях собственная совесть самого индивидуума должна заступать место отсутствующего судьи и охранять те интересы, которые таким образом лишены внешней охраны, и индивидуум должен быть сам для себя в таких случаях тем более строгим судьей, что совершенно свободен от всякого другого суда.
Но в жизни человека есть такая сфера, которая не имеет никакого отношения к интересам общества, или, по крайней мере, не имеет никакого непосредственного к ним отношения: сюда принадлежит вся та сторона человеческой жизни и деятельности, которая касается только самого индивидуума, а если и касается других людей, то не иначе, как вследствие их совершенно сознательного на то согласия или желания. Совершающееся в этой сфере может и не касаться прямо других людей, а только косвенно, т.е. через посредство того индивидуума, которого касается непосредственно, — и на этом основании мне могут быть предъявлены некоторые возражения, которые, впрочем, я рассмотрю впоследствии, а теперь остановлюсь на том, что та сфера человеческой жизни, которая имеет непосредственное отношение только к самому индивидууму, и есть сфера индивидуальной свободы. Сюда принадлежат, во-первых, свобода совести в самом обширном смысле слова, абсолютная свобода мысли, чувства, мнения касательно всех возможных предметов, и практических, и спекулятивных, и научных, и нравственных, и теологических. С первого взгляда может показаться, что свобода выражать и опубликовывать свои мысли должна подлежать совершенно иным условиям, так как она принадлежит к той сфере индивидуальной деятельности, которая касается других людей; но на самом деле она имеет для индивидуума почти совершенно такое же значение, как и свобода мысли, и в действительности неразрывно с нею связана. Во-вторых, сюда принадлежат свобода выбора и преследования той или другой цели, свобода устраивать свою жизнь сообразно со своим личным характером, по своему личному усмотрению, к каким бы это ни вело последствиям для меня лично, и если я не делаю вреда другим людям, то люди не имеют основания вмешиваться в то, что я делаю, как бы мои действия не казались им глупыми, предосудительными, безрассудными. Отсюда вытекает третий вид индивидуальной свободы, подлежащий тому же ограничению, — свобода действовать сообща с другими индивидуумами, соединяться с ними для достижения какой-либо цели, которая не вредна другим людям; при этом предполагается, конечно, что к действию сообща привлекаются люди совершеннолетние, и при том не обманом и не насилием.
Не свободно то общество, какая бы ни была его форма правления, в котором индивидуум не имеет свободы мысли и слова, свободы жить, как хочет, свободы ассоциации, — и только то общество свободно, в котором все эти виды индивидуальной свободы существуют абсолютно и безразлично одинаково для всех его членов. Только такая свобода и заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, — с тем только ограничением, чтобы наши действия не лишали других людей их блага, или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению.
Каждый индивидуум есть лучший сам для себя охранитель своего здоровья, как физического, так и умственного и духовного.
Предоставляя каждому жить так, как он признает за лучшее, человечество вообще гораздо более выигрывает, чем принуждая каждого жить так, как признают за лучшее другие.
То, что я высказал, не заключает в себе ничего нового и может даже показаться совершенным трюизмом, а между тем едва ли какая другая доктрина представляет более резкое противоречие с тем общим направлением, какое мы вообще встречаем как в мнениях, так и в практике. Общества, обыкновенно, с не меньшим рвением заботились (сообразно степени своего развития) о подчинении индивидуумов своим понятиям о личном благе, как и о благе общественном. Древние республики считали себя вправе регулировать все стороны частной жизни на том основании, что для государства в высшей степени важно все, что касается физического или умственного состояния его граждан. Мнение это разделяли и древние философы. Такой взгляд древних на отношение общества к индивидууму мог иметь свое оправдание в том, что древние общества были маленькие республики, которые будучи окружены сильными врагами, находились постоянно в опасности погибнуть от внешнего нападения или вследствие внутренних сотрясений; понятно, что не в состоянии были положиться на индивидуальную свободу те общества, которые находились в таких условиях, что за самое даже кратковременное ослабление своей энергии и своего самообладания могли поплатиться существованием. Общества же нового времени были могущественные государства, и, притом, в этих обществах духовная власть была отделена от светской, вследствие чего управление совестью людей и управление их земными делами находилось не в одних и тех же руках: вот почему мы не находим в них такого вмешательства со стороны закона в частную жизнь, какое существовало в Древнем мире. Но зато в этих обществах индивидуум находился даже под более тяжелым нравственным гнетом в том, что касалось его лично, чем в том, что касалось общества, так как религия, составлявшая самый могущественный элемент нравственного чувства, почти постоянно была орудием в руках честолюбивой иерархии, стремившейся подчинить своему контролю все стороны человеческой жизни, или же была проникнута духом пуританизма. Заметим, что даже некоторые из новейший реформаторов, которые с наибольшей силой восставали против религий прошедшего, не уступят любой церкви или любой секте относительно признания прав духовного господства; укажу на Конта, которого социальная система, как он ее развил в своем Traite de Politique Positive стремится установить (правда, более нравственным влиянием, чем легальностью) такой деспотизм общества над индивидуумом, который далеко оставляет за собой даже все то, что мы находим в политических идеалах самых строгих дисциплинаторов из числа древних философов.
Не только в доктринах мыслящих индивидуумов, но и вообще в людях заметна возрастающая склонность к расширению господства общества над индивидуумом, как через общественное мнение, так и через посредство закона, далее должных пределов; и так как все изменения, совершающиеся в существующих порядках, обнаруживают тяготение к усилению общества и к ослаблению индивидуума, то чрезмерное увеличение власти общества над индивидуумом представляется нам не таким злом, которое обещало бы со временем прекратиться само собою, а напротив, это такое зло, которое все более и более растет. Та наклонность, которую мы замечаем не только в правителях по отношению к управляемым, но и вообще в гражданах по отношению к их согражданам, наклонность навязывать другим свои мнения и вкусы, находить себе столь энергическую поддержку как в некоторых самых лучших, так и в некоторых самых худших чувствах, свойственных человеческой природе, что едва ли ее что-либо воздерживает, кроме недостатка средств, — а так как средства к порабощению индивидуума не только не уменьшаются, но, напротив, все более и более растут, то мы должны ожидать, что при таких условиях господство общества над индивидуумом будет все более и более увеличиваться, если только это зло не встретит для себя сильной преграды в твердом нравственном убеждении.
Я нахожу соответствующим моей задаче не приступать прямо к общему тезису, а ограничиться сперва тою его частью, по отношению к которой высказанный мною принцип, если не вполне, то, по крайней мере, до некоторой степени признается общепринятыми мнениями, — а именно: свободу мысли. С этой свободой неразрывно связана свобода говорить и писать. Хотя оба эти вида свободы в значительной степени входят в политическую нравственность во всех странах, которые только имеют притязание на веротерпимость и на свободные учреждения, но те основы, как философские, так и практические, на которые они опираются, едва ли до такой степени общеизвестны, и едва ли надлежащим образом оцениваются даже многими из руководителей мнения, как этого можно было бы ожидать. Эти основы, будучи правильно поняты, имеют более широкую применимость, а не только по отношению к свободе мысли и слова, и подробное рассмотрение этой части вопроса будет, я полагаю, лучшим введением в остальную его часть. Я надеюсь, что те из моих читателей, которые не найдут для себя ничего нового в том, что я скажу, извинят мне это, приняв в соображение то, что побуждает меня пускаться в рассуждения о таком предмете, о котором уже не так много рассуждали в течение трех столетий.
Глава II
О свободе мысли и критики
Дозволительно надеяться, что миновало уже то время, когда надо было доказывать, что свобода печати есть одна из необходимых гарантий против правительственного произвола или притеснения. Дозволительно также предположить бесполезной всякую аргументацию в подтверждение того, что народ не должен терпеть, чтобы какая бы то ни было законодательная или исполнительная власть предписывала ему иметь известные мнения или определяла бы, какие мнения или доктрины могут свободно доходить до его слуха и какие нет (что, конечно, бывает только в одном случае, когда интересы власти не тождественны с интересами народа). Кроме того, эта сторона вопроса столь часто и с такой неотразимой убедительностью рассматривалась предшествовавшими мне писателями, что не нуждается ни в каких новых доводах. Хотя английский Закон о печати и до сих пор еще также подл, как был во времена Тюдоров, но мало опасности, чтобы он когда-либо был применим на самом деле, исключая разве в паническую минуту, по случаю каких-либо необычайных обстоятельств, когда, например, страх восстания выведет министров и судей из их нормального состояния. Говоря вообще, нет основания опасаться, чтобы конституционные правительства, какая бы ни была на самом деле их ответственность перед народом, часто посягали на свободу выражения мнений, если только такого посягательства не требует от них нетерпимость самого общества. Но если мы предположим даже, что правительство и народ находятся между собой в полном единении и что правительство никогда даже и в мыслях не имеет в чем-либо стеснять свободу слова, за исключением когда того требует сам народ, то и в таком случае всякое стеснение свободы не менее нетерпимо. Я отрицаю, чтобы сам народ имел право каким бы то ни было образом стеснять свободу выражения мнений, через посредство ли правительства или как-нибудь иначе; я утверждаю, что такого права вовсе не существует, — что его одинаково не имеют никакие правительства, ни самые лучшие, ни самые худшие, какие бы то ни было. Когда это мнимое право применяется на деле вследствие требования общественного мнения, то это не только не менее вредно, но даже еще более вредно, чем когда оно применяется вопреки общественному мнению. Если бы весь род человеческий за исключением только одного индивидуума был известного мнения, а этот индивидуум был мнения противного, то и тогда все человечество имело бы не более права заставить молчать этого индивидуума, чем какое имел бы и сам индивидуум заставить молчать все человечество, если бы имел на то возможность. Хотя бы какое-нибудь мнение и было исключительным достоянием только известного лица и имело бы цену только для него одного, и следовательно преследование этого мнения было бы только преследованием одного этого лица, то тут разница была бы только в числе непосредственно терпящих лиц, а самое качество действия было бы то же. Особенное же качество действий, нарушающих свободу слова, состоит в том, что они во всяком случае составляют воровство по отношению ко всему человечеству, как к будущим, так и к настоящим поколениям, как по отношению к тем, кто усвоил бы себе преследуемое мнение, так и по отношению к тем, кто бы его отверг. Если мнение правильно, то запрещать выражать его значит запрещать людям знать истину и препятствовать им выйти из заблуждения; если же мнение неправильно, то препятствовать свободному его выражению — значит препятствовать достижению людьми не меньшего блага, чем и в первом случае, а именно: более ясного уразумения истины и более глубокого в ней убеждения, как это обыкновенно имеет своим последствием всякое столкновение истины с заблуждением. Необходимо рассмотреть отдельно обе эти гипотезы, так как каждая из них имеет свою особенность по отношению к общему тезису. Мы никогда не можем быть совершенно уверены, чтобы мнение, которое намереваемся уничтожить, было мнение ложное, а если бы и были в том уверены, то уничтожение такого мнения есть также зло.
Первая гипотеза: мнение, которое хотят насильственным образом уничтожить, может быть истина. Желающие уничтожить какое-нибудь мнение, конечно, признают его ложным; но они могут ошибаться, и притом никто не имеет права решать какой бы то ни было вопрос за все человечество и лишать кого бы то ни было средств принять участие в обсуждении вопроса. Не дозволять высказываться мнению на том основании, что оно ложно, значит признавать свои личные мнения за абсолютную истину, — значит объявлять притязание на непогрешимость. Как ни прост этот аргумент, но простота не лишает его силы, и этого простого аргумента достаточно, чтобы произнести окончательный приговор над всяким препятствием свободно высказываться какому бы то ни было мнению.
Но в ущерб здравому смыслу, людская непогрешимость далеко не имеет на практике того значения, какое за ней обыкновенно признается в теории. Люди охотно признают, что могут ошибаться, но мало таких людей, которые бы считали нужным принимать какие-нибудь меры предосторожности против своей погрешимости и допускали бы предположение, что, может быть, мнение, считаемое ими истинными, и есть один из примеров той погрешимости, которую они сознают за собой. Люди, облеченные обширною властью и вообще люди, привыкшие к тому, чтобы окружающие их безусловно соглашались с их мнениями, обыкновенно питают к своим личным мнениям безграничное доверие, к какому бы предмету они не относились. Те же люди, которые в этом отношении находятся в положении более счастливом и которым приходится иногда выслушивать возражения и даже исправлять свои мнения по указаниям других людей, такие люди обыкновенно имеют безграничное доверие только к тем своим мнениям, которые разделяются всеми их окружающими, или, по крайней мере, теми, которых они особенно уважают. Таково общее явление, что чем менее человек полагается на свое личное суждение, тем более полагается он на непогрешимость «всего мира», а этот «весь мир« на самом деле есть не более, как та часть мира, с которою индивидуум находится в соприкосновении, т.е. какая-нибудь партия, секта, церковь, какой-либо класс общества; того человека, для которого это выражение «весь мир» означает его страну или его век, можно даже назвать, по сравнению с другими, человеком либерального и широкого ума. Вера человека в этот коллективный авторитет «всего мира» нисколько не ослабляется даже сознанием, что другие века, страны, секты, церкви, классы, партии думали и теперь даже думают совершенно иначе. Люди обыкновенно не считают себя лично ответственными в качестве своих мнений и всю ответственность в этом отношении возлагают на свои миры; их нисколько не смущает мысль, что если они принадлежат к тому, а не к другому миру, то это дело случая, и что если они англичане, то потому только, что родились и живут в Лондоне, а что если бы они родились и жили в Пекине, то были бы буддистами или поклонниками Конфуция. Века не более непогрешимы, чем индивидуумы: это до такой степени очевидная истина, что к очевидности ее ничего не прибавят никакие аргументы. Нет века, который бы не исповедовал многих таких мнений, которые последующими веками признавались не только ложными, но и просто нелепыми. Как теперешний наш век отвергает многое, что составляло некогда общепризнанную истину, так и будущие века несомненно отвергнут многое, что составляет общепризнанную истину нашего века.
Мы можем ожидать следующего рода возражения на наш аргумент: «Запрещать распространение заблуждения обнаруживает не большее притязание на непогрешимость, чем и всякий другой акт общественной власти. Рассудок дан людям для того, чтобы они пользовались им, и если, руководствуясь рассудком, люди могут ошибаться, то разве из этого следует, что они не должны им пользоваться? Люди запрещают то, что признают вредным, не потому, что имеют притязание на непогрешимость, а потому что, хотя и сознают себя способными заблуждаться, но тем не менее обязаны в данном случае действовать по своему убеждению. Если мы не должны действовать по нашим убеждениям потому, что эти убеждения могут быть ошибочны, то в таком случае мы должны прекратить всякие заботы о наших интересах и прекратить исполнение всяких наших обязанностей. Очевидно, что наш аргумент (могут сказать мне) имеет значение по отношению ко всем действиям человека и потому не может служить аргументом против одного какого-либо рода действий, а равно и против того, который теперь рассматривается. И правительство, и индивидуумы равно обязаны употреблять все усилия, чтобы иметь самые истинные мнения, — должны тщательно заботиться об их истинности и ни в каком случае не навязывать их другим, если не уверены в том, что она суть истина. Но если они, будучи совершенно уверены в истинности своих мнений (так обыкновенно говорят люди противного нам мнения), не будут руководиться им в своих действиях, и на том основании, что в эпохи менее просвещенные бывали примеры преследования мнений, которые потом оказывались истинными, дозволять свободно пропагандировать такие доктрины, которые, по их убеждению, опасны для блага людей в настоящей или будущей жизни, то такой образ действий с их стороны не только не будет исполнением долга, а напротив, будет просто нарушением долга. Правительство и народ заблуждались не только в своих действиях по отношению к тем или другим мнениям, но и в других предметах, а ведь никто же не утверждает, что эти другие предметы не должны подлежать вмешательству власти. Налагались несправедливые налоги, велись неправильные войны, — но ведь из этого не следует же, чтобы мы должны были не налагать налогов, не вести войны. И люди, и правительства должны стараться действовать самым лучшим образом, насколько способны, и когда они действуют на основании своих мнений, но не потому, чтобы имели притязание на абсолютную истину, а потому, что имеют уверенность в истинности своих мнений, достаточную для выполнения целей человеческой жизни. Мы можем, мы должны иметь настолько уверенности в истине нашего мнения, чтобы руководиться им в своих поступках, — и далее этого не идет наша притязательность, когда мы запрещаем злым людям развращать общество пропагандою таких мнений, которые, по нашему убеждению, ложны и вредны».
Я отвечу противникам свободы, что их возражение заключает в себе больше притязательности, чем сколько они это сознают. Большая разница — предполагать известное мнение истинным на том основании, что оно не было опровергнуто, несмотря на полную свободу опровергать его, или — утверждать просто, что такое-то мнение истинно, и на этом только основании не дозволять никаких на него возражений. Полная свобода возражать на наше мнение, оспаривать его составляет существенное условие, необходимое для оправдания с нашей стороны такой уверенности в его истине, чтоб мы могли руководиться им в своих действиях: существо, имеющее не более как только человеческие способности, не может без этого условия иметь сколько-нибудь рациональной уверенности в истине своего мнения.
Как объясните вы, почему мнения людей и вообще их образ действий не хуже, чем как они суть на самом деле? Не непосредственною же силою человеческого понимания! Возьмите любой предмет, который требует сколько-нибудь размышления для своего уразумения, и вы найдете, что девяносто девять на сто окажутся неспособными иметь о нем суждение, и один из ста, оказавшийся способным судить о предмете, способен только относительно, т.е. по сравнению со степенью неспособности остальных девяносто девяти, так как большинство самых даровитых людей всех прошлых поколений всегда держалось многих таких мнений, которые теперь признаны ошибочными, — совершало или одобряло много таких вещей, которые в настоящее время никто не станет оправдывать. Почему же, однако, между людьми, говоря вообще, преобладают рациональные мнения и рациональный образ действий? Если такое преобладание действительно существует — а оно существует действительно, потому что иначе люди находились бы в самом отчаянном положении — то благодаря только тому качеству человеческого ума, из которого истекает все достоинство человеческое, как интеллектуальное, так и нравственное, а именно, тому его качеству, которое делает его способным исправлять свои ошибки. Ум человека способен исправлять свои ошибки через критику и опыт. Но он не может их исправлять только через один опыт: критика необходима для того, чтобы сделать видным то, что раскрывается опытом. Ошибочные мнения и обыкновения постепенно уступают факту и аргументу; но факты и аргументы, чтобы произвести какое-нибудь действие на ум человека, должны быть предъявлены этому уму. Весьма немного таких фактов, которые способны были бы сами повествовать свою историю и не нуждались бы в комментарии для раскрытия своего смысла. Все достоинство человеческого суждения условливается тем его свойством, что оно способно исправлять свои ошибки, а следовательно, только к тому суждению можно иметь доверие, которое постоянно имело все средства, чтобы быть правильным. Каким образом человек достигает того, что его суждение действительно заслуживает доверия? Не тем ли, что, подвергая постоянно критике свои мнения и поступки, он со вниманием выслушивает все, что может быть сказано против него, исправляет свое суждение, насколько возражения оказываются справедливыми, охотно сознает, а при случае и объясняет другим, ложность того, что оказалось ошибочным в его мнениях. Не такого ли человека суждение только и заслуживает доверия, который сознает, что единственное средство сколько-нибудь приблизиться к полному знанию предмета состоит в том, чтобы выслушивать внимательное все, что может быть сказано о нем людьми всех возможных мнений, изучать его со всех возможных точек зрения, с которых только могут взглянуть на него люди. Не иным каким путем, а именно этим, умные люди и достигали мудрости; другого пути нет и он невозможен по самому свойству человеческого ума.
Привычка постоянно исправлять и дополнять свое мнение через сравнение с мнениями других людей, не только не производить в человеке сомнения или колебания касательно применения своего мнения на практике, а напротив, составляет единственное прочное основание справедливого к нему доверия. Такой человек, который сознает, что внимательно выслушал все, что может быть сказано против его мнения, что тщательно проверил свое мнение со всеми возражениями своих противников, что не только не избегал, а напротив, искал возражений и затруднений, и с радостью ловил всякую мысль, которая могла разъяснить предмет, откуда бы эта мысль ни исходила, — такой человек имеет основание думать, что его суждение лучше, чем суждение другого человека или чем суждение толпы, которое не выдержало подобного процесса.
Нет ничего чрезмерного в этом требовании, чтобы пестрая коллекция индивидуумов, называемая публикой, в которой столь мало умных и столь много глупых людей, — чтобы эта публика по отношению к своим мнениям подчинялась тем же условиям, выполнение которых самые умные люди, имевшие более основания, чем кто-либо, полагаться на самих себя, считали, однако, необходимым для того, чтобы можно было довериться своему суждению. Даже римско-католическая церковь, которая отличается большею нетерпимостью, чем какая-либо другая, — даже и эта церковь прежде чем канонизировать святого, дает слово «адвокату дьявола» и терпеливо выслушивает его. Самые святые люди, по-видимому, не иначе могут быть удостоены подобающих им посмертных почестей, как когда выслушано и взвешено все, что может сказать против них дьявол. Если бы было запрещено критиковать философию Ньютона, то человечество не могло бы иметь в ее истинности такой полной уверенности, какую теперь имеет. Для нас не существует никакого другого ручательства в истинности какого бы то ни было мнения, кроме того, что каждому человеку представляется полная свобода доказывать его ошибочность, а между тем ошибочность его не доказана. Если вызов на критику не принять, или если принять, но критика оказалась бессильной, то это еще нисколько не значит, что мы обладаем истиной, — мы можем быть еще очень далеко от истины, но, по крайней мере, мы сделали все для ее достижения, что только могло быть сделано при настоящем состоянии человеческого понимания, — мы по крайней мере не пренебрегли ничем, что могло раскрыть нам истину, и если поле для критики остается открытым, то мы можем надеяться, что ошибки, какие есть в нашем мнении, будут раскрыты для нас, как только ум человеческий сделается способен к их раскрытию, а покамест имеем основание думать, что настолько приблизились к истине, насколько это возможно для нас в данную минуту. Вот только до какой степени человек достигает знания истины, и вот единственный путь, которым он может достигать этого знания.
Странно, что люди обыкновенно признают значение аргументов, приводимых в пользу свободной критики, и в тоже время упрекают аргументаторов «в крайности выводов», — странно, как они не видят, что если аргументы не доказывают крайних выводов, то и ровно ничего не доказывают. Странно, каким образом могут утверждать, что не имеют никакого притязания на непогрешимость те люди, которые допускают свободную критику только относительно предметов сомнительных и отрицают ее относительно известных принципов или доктрин на том основании, что эти принципы или доктрины несомненны, т.е. на том основании, что для них несомненна их истинность. Признавать что-либо несомненным и запрещать опровержения, когда оказывается хотя один человек, желающий опровергать, — не значит ли это себя и тех, кто с ними одного мнения, признавать судьями несомненности, и притом такими судьями, которые судят, не выслушав противной стороны.
В наш век, который обыкновенно описывают как лишенный веры и вместе с тем напуганный скептицизмом, люди не столько уверены в истинности своих мнений, сколько в том, что не знали бы, что делать, если бы их не имели; в наш век притязание какого-либо мнения на охрану от гласной критики основывается собственно не на его истинности, а скорее на значении его для общества. Утверждают, что некоторые верования столь полезны, чтоб не сказать необходимы для общего блага, что охранять их для правительства не менее обязательно, как и охранять какие-либо другие общественные интересы, — что когда грозит опасность верованиям, которые имеют важное значение для общественного блага и, следовательно, которых охранение составляет прямую обязанность правительства, то правительства не только могут с полным основанием, но даже обязаны действовать по своему мнению, подтверждаемому общим мнением людей, и для оправдания своих действий не нуждаются в притязании на непогрешимость. Часто утверждают, и еще чаще думают, что только одни злые люди могут желать ослабления благодетельных для общества верований, и что, следовательно, нет ничего дурного принимать меры против злых людей и воспрещать им то, чего только они одни и желают. Такой взгляд ставит оправдание ограничений свободы критики в зависимость не от истинности охраняемых доктрин, а от их полезности, и сторонники этого взгляда воображают себе, что они таким образом отстраняют от себя упрек в притязании быть непогрешимыми судьями мнений, — они не видят, что такой взгляд не отстраняет притязания на непогрешимость, а только перемещает его с одного пункта на другой. Полезность какого-либо мнения есть также предмет суждения, и предмет столь же спорный, также подлежащий критике и также нуждающийся в критике, как и самое мнение. Утверждать, что такое-то мнение вредно и на этом основании лишать его свободы высказываться, — предполагает такое же притязание на непогрешимость, как если бы дело шло не во вред или пользе мнения, а об его истинности или ложности. Неправильно утверждать, что будто может быть дозволено доказывать пользу или безвредность мнения, и запрещено только доказывать или опровергать его истинность, потому, что истинность мнения составляет всегда существенную часть его полезности. Желая знать, желательно или не желательно, чтобы такое-то мнение было общепризнанно, можем ли мы не принять при этом в соображение, истинно оно или ложно? По мнению не дурных, а лучших людей, никакое верование, противное истине, не может быть полезно, и когда эти люди отрицают какую-нибудь доктрину, которую вы признаете полезною, а они признают ложною, то на каком основании можете вы запретить им доказывать, что ложное не может быть полезно? Люди, держащиеся охраняемого вами мнения, разве не пользуются этим аргументом, а ведь вы не находите же дурным, что они не отделяют вопрос о пользе от вопроса о истинности! Полезность или необходимость признания какой-либо доктрины не доказывается ли главным образом тем, что эта доктрина есть истина? Если этот самый существенный аргумент в вопросе о полезности той или другой доктрины дозволителен только одной стороне, а не дозволителен другой, то при таких условиях спор невозможен. И в самом деле, когда закон или общественное чувство не дозволяют оспаривать истинность какого-либо мнения, не с одинаковою ли нетерпимостью относятся они и к отрицанию его полезности? Смягчать его абсолютную необходимость или положительную преступность его отрицания — вот крайние пределы того, что они считают дозволительным.
Чтоб выставить еще с большею ясностью, какое это великое зло -не дозволять выражаться мнениям на том основании, что мы считаем их вредными, я перенесу наш спор с общего тезиса на частные применения и возьму для примера те именно применения, которые для меня наименее благоприятны, в которых аргумент против свободы мнений, как по отношению к истинности, так и по отношению к пользе, признается наиболее сильным. Возьмем для примера веру в Бога, веру в будущую жизнь, или какую хотите самую общепризнанную нравственную доктрину. Я очень хорошо знаю, что перенося спор на такую почву, даю против себя большое преимущество недобросовестному противнику, который без сомнения скажет (а вслед за ним повторят и другие, хотя и не по недостатку добросовестности): «Разве вы считаете эти доктрины недостаточно несомненными, чтобы закон мог взять их под свое покровительство? Уж не принадлежит ли по вашему и вера в Бога к числу таких мнений, которые нам недозволительно считать несомненными, потому что это значило бы, — как вы говорите, — признавать себя непогрешимым?» Позволю себе заметить на это, что я вовсе не считаю убеждения в истинности какого бы то ни было мнения или доктрины притязанием на непогрешимость, — я говорю только, что решать какой бы то ни был вопрос за других и не дозволять им выслушивать возражения на это решение — значит признавать себя непогрешимым судьей этого вопроса, а такое притязание я осуждаю и протестую против него со всей энергией, хотя бы им охранялись и самые дорогие для меня убеждения. Как бы ни было сильно в человеке убеждение не только в ложности, но и во вредности, — не только во вредности, но и (употребляя обыкновенные в этом случае выражения, значение которых я совершенно отрицаю) в безнравственности и нечестии какого-либо мнения, и если бы даже это убеждение касательно этого мнения разделялось его страной или его современниками, — во всяком случае, лишить это мнение свободы высказываться будет с его стороны притязанием на непогрешимость. И такое притязание не только не менее опасно и не менее предосудительно, потому что относится к такому мнению, которое признается безнравственным и нечестивым, а напротив, в этих случаях оно еще более бедственно, чем в каких-либо других. В таких-то случаях именно и совершались людьми те страшные ошибки, которые составляют предмет удивления и ужаса для потомства; к таким именно случаям и относятся те достопамятные примеры истории, когда сила закона употреблялась на гибель самых лучших людей и на искоренение самых великих доктрин. Преследования людей увенчивались к несчастью полным успехом, и люди гибли; но некоторым доктринам удалось пережить преследование, и теперь на это ссылаются (как будто в насмешку) для оправдания преследования мнений, которые не согласны с этими доктринами, или не согласны с общепринятым их толкованием.
Никогда не излишне напомнить людям, как бы часто это им ни напоминали, что жил когда-то человек по имени Сократ, которого легальные власти и общественное мнение убили, как преступника. По общему свидетельству, та эпоха и та страна, к которым он принадлежал, были богаты индивидуальным величием, а сам он был самым добродетельным человеком своего времени. Мы знаем, что он — глава и прототип всех великих учителей добродетели, которые только были после него, что он виновник высокого вдохновения Платона и утилитаризма Аристотеля «i maestri di color che sannio», что он учитель этих двух творцов как этической, так и всякой другой философии. И что же! этот великий человек, которого все бывшие после него великие мыслители признавали своим учителем, которого слава постоянно росла в течение двух тысячелетий и превосходит славу всех других, прославивших его отечество, — этот человек приговорен был к смерти и казнен своими согражданами за безнравственность и нечестие. Он был виновен в нечестии, потому что отрицал богов, которых признавало его государство; обвинитель его утверждал, что он не верует ни в каких богов. Он был виновен в безнравственности, потому что его учения и его наставления «развращали юношество». Мы имеем полное основание думать, что суд совершенно добросовестно признал виновным в этих преступлениях самого лучшего из людей и осудил его на смерть, как преступника.
Но есть еще пример судебной несправедливости, единственный впрочем, на который можно указать даже и после осуждения Сократа, не отступая от правильной аргументации, не переходя от более сильного аргумента к менее сильному. Я говорю о том событии, которое совершилось назад тому восемнадцать столетий. Люди не только узнали своего благодетеля, — они признали Его чудовищем нечестия, поступили с Ним, как со злодеем, и через это сами потом стали примером нечестия самого чудовищного.
Увлекаясь теми чувствами, которые в настоящее время возбуждают оба приведенные нами события, особенно же последнее из них, — люди обыкновенно судят крайне несправедливо о виновниках этих событий. Судя по всему, это были не дурные люди, — они были не хуже, чем какими люди обыкновенно бывают, а скорее даже лучше, это были люди вполне, или, может быть, даже несколько чрезмерно, проникнутые религиозными, нравственными и патриотическими чувствами своего времени и своего народа, — они принадлежали к разряду тех людей, которые во все времена, не исключая и нашего, наиболее способны прожить свой век безупречно и пользуясь общим уважением. Когда первосвященник разодрал на себе одеяние, услышав такие слова, которые, по понятиям его страны, составляли самое черное из преступлений, то его ужас и его негодование были, по всей вероятности, не менее искренны, чем нравственные и религиозные чувства благочестивых и достойных людей нашего времени, — и многие из тех, которые теперь приходят в ужас при мысли о Распятом, если бы жили в те времена и родились евреями, то сделали бы то же самое, что сделал первосвященник. Не должны забывать те православные, которые думают, что они лучше тех людей, которые побили камнями первых мучеников, — не должны они забывать, что между бросающими каменья был и Святой Павел.
Приведу еще один пример, самый поразительный из всех, если только поразительность заблуждения измеряется мудростью и добродетелью того, кто в него впадает. Если когда-либо человек, облеченный властью, имел основание считать себя лучшим и самым просвещеннейшим из своих современников, то таковым был, без сомнения, император Марк Аврелий. Будучи неограниченным властелином всего цивилизованного мира, он всю свою жизнь был не только человеком самой безупречной справедливости, но — чего менее можно было ожидать от его стоического воспитания — и человеком самого нежного сердца. Все те немногие ошибки, которые ему приписываются, происходили от его снисходительности. Сочинения его составляют самое высокое этическое произведение древнего ума, и если представляют какое различие от христианского учения, то самое незначительное. И этот человек, который был лучшим христианином во всех отношениях (за исключением только догматического смысла этого слова), чем многие когда-либо бывшие, собственно так называемые, христианские государи, и этот человек преследовал христианство Находясь на такой умственной высоте, какую только делали достижимой все предшествовавшие судьбы человечества, будучи ума самого чуткого и самого либерального, обладая таким характером, что был способен в своих сочинениях возвыситься даже до христианского идеала, он при всем этом не понял, что христианство — благо для мира, а не зло. Он сознавал, что общество находится в самом плачевном состоянии; но как ни было дурно это состояние, он видел, или воображал, что видит, что если еще общество сколько-нибудь держится и не впадает в состояние еще более худшее, то благодаря вере и уважению к признанным божествам. Как правитель, он считал своею обязанностью охранять общество от окончательного распадения, и не понимал каким бы образом оно могло существовать, если бы основы, на которых оно держалось, были ниспровергнуты. А между тем новая религия открыто стремилась к ниспровержению этих основ. Следовательно, если только он не сознавал своим долгом признать эту религию, то ему должно было представляться очевидным, что его прямой долг ее уничтожить. Христианская теология не убедила его в своей истинности или в божественности своего происхождения; вся эта странная история о распятом Боге была для него невероятна, и он не мог предвидеть, чтобы система, основанная на том, что для него было совершенной небылицей, имела столь великую живительную силу, какую потом обнаружила, — и таким образом самый лучший и самый добрый из философов и правителей, следуя очевидному для него указанию долга, сделался гонителем христианства. По моему мнению, это одно из самых трагических событий во всей истории.
Во всяком случае противно было бы справедливости и противно истине не признать, что Марк Аврелий имел для преследования христиан все основания, какие только могут быть представлены для преследования любого антихристианского учения. Из всех людей, живших в то время, Марк Аврелий был более способен, чем кто-либо, понять христианство, а между тем он был убежден, что христианство есть ложь, что оно стремится к разрушению общества, и убеждение его было не менее искренно, чем вера христианина в ложность и антиобщественность атеизма. Мы можем по крайней мере сказать противникам свободы мнения: если вы не считаете себя людьми более умными и более добродетельными, чем Марк Аврелий, — если вы не признаете за собой, чтоб вы в большей степени, чем Марк Аврелий, обладали всею мудростью своего времени, и более высоко, чем он, стояли над своим веком, — если вы не сознаете, чтобы вас одушевляла более пламенная любовь к истине и более пламенная к ней преданность, чем какая одушевляла Марка Аврелия, — то воздержитесь от преследования мнений, подумайте о том, к каким бедственным последствиям вера в непогрешимость своего мнения и мнения толпы привела великого Антонина.
Будучи обличены в невозможности привести какой-либо аргумент в свою защиту, который бы в то же время не оправдывал и Марка Аврелия, враги религиозной свободы бросаются нередко в другую сторону для оправдания религиозных преследований и вместе с Джонсоном утверждают, что гонители христианства были правы, — что гонение есть испытание, через которое должна проходить истина и из которой она всегда выходит торжествующей, — что все преследования, в конце концов, оказываются бессильными против истины и, к счастью людей, действительны только против вредных заблуждений.
Этот аргумент в пользу религиозной нетерпимости довольно замечателен, чтобы его можно было обойти молчанием.
Такая доктрина, которая оправдывает преследование истины тем, что против истины бессильно всякое преследование, — такая доктрина, конечно, не может быть обвинена в преднамеренной враждебности к новым истинам, но мы не можем согласиться, чтобы она отличалась великодушием по отношению к тем людям, которые являются их возвестителями. Открыть людям то, чего они прежде не знали и что для них в высшей степени важно, — доказать им, что они ошибались в чем-либо таком, что имеет существенное значение для их временных или духовных интересов, это самая великая заслуга, какую только человек может оказать своим ближним, и те, которые разделяют мнение Джонсона, признают, что первые христиане и реформаторы оказали человечеству самую величайшую услугу, какая только возможна. И что же! Если этих благодетелей человечества, в воздаяние за их благодеяние, предают мучительной смерти, если с ними поступают, как с самыми последними злодеями, то это не есть заблуждение, не есть бедствие, которое человечество должно было бы оплакивать, посыпав главу пеплом, а напротив, по доктрине Джонсона, это факт совершенно нормальный! Признать такую доктрину — не все ли это равно, как если бы мы признали, что с тем человеком, который возвещает новую истину, следует поступить так, как локрийцы поступали с тем, кто предлагал новый закон, — надеть ему веревку на шею и задушить его, если его предложение не будет немедленно же принято. Людей, которые защищают подобную доктрину, нельзя, конечно, заподозрить, чтобы они слишком высоко ценили то благодеяние, которое оказывают человечеству возвестители новых истин, и я полагаю, что признавать такую доктрину могут только те люди, которые находят, что если и было время, когда желательны были новые истины, то теперь это время уже прошло.
Изречение, что истина всегда торжествует над преследованием, принадлежит к числу тех странных заблуждений, которые так охотно повторяются людьми, что обращаются наконец для них в обиходную истину, несмотря на все опровержения, какие встречаются против них в действительной жизни. История богата примерами, как преследование заставляло безмолвствовать истину, и если не истребляло ее навсегда, то, по крайней мере, отдаляло ее торжество на целые столетия. Ограничусь указанием на предисторию религиозных мнений. Реформация, по крайней мере, двадцать раз начиналась еще до Лютера, и каждый раз была задавлена. Арнольд из Брешии, Фра-Дольчино, Савонарола, альбигойцы, вальденцы, лолларды, гуссисты — разве все они не были задавлены! Даже и после Лютера преследование было везде успешно, где только велось настойчиво. В Испании, Италии, Фландрии, в Австрийской империи протестантизм был вырван с корнем; то же самое случилось бы вероятно и в Англии, если бы королева Мария жила подольше, или королева Елизавета умерла пораньше. Преследование всегда удавалось там, где еретики не составляли из себя довольно сильной партии, чтобы противостоять преследованию. Ни один рассудительный человек не сомневается в том, что в Римской империи христианство могло быть истреблено до корня, — что если оно уцелело и потом восторжествовало, то единственно потому, что преследования были случайны, кратковременны, с большими промежутками, а пропаганда почти совершенно свободна. Следовательно, это не более, как только пустое сентиментальничанье утверждать, что будто истина, потому уже, что она — истина, обладает такою присущей ей силою, которой не имеет заблуждение и против которой бессильны и тюрьмы, и костры. Обыкновенно бывает так, что люди служат истине не с большею ревностью, чем с какою служат и заблуждению. Преследование со стороны властей или даже только со стороны общественного мнения действует одинаково успешно против всякой пропаганды, будет ли иметь эта пропаганда своею целью распространение того, что истинно, или того, что ложно. Существенное в этом отношении преимущество истины над заблуждением состоит только в том, что, будучи задавлена, истина всегда имеет вероятность, что с течением времени явятся люди, которые снова вызовут ее к жизни, и что одно из таких ее возрождений совпадет когда-либо с известными условиями, которые позволят ей, хотя на время, избежать преследований и достаточно окрепнуть, чтобы потом быть в состоянии выдержать преследование.
Нам могут сказать, что в настоящее время не предают уже смерти проповедников новых мнений, не казнят пророков. Правда, — еретиков уже более не казнят, правда, — чувства, господствующие в современных обществах, едва ли потерпят чтобы преследование какого бы то ни было мнения, даже самого ненавистного, переходило далее известных пределов, а преследование в этих пределах едва ли может быть довольно действительно, чтобы совершенно искоренить какое-нибудь мнение. Но это было бы с нашей стороны лестью самим себе, если бы мы стали утверждать, то в наше время закон уже не преследует людей за то, что они имеют то или другое мнение, что мы уже совершенно освободились от этого позора. У нас до сих пор еще существуют законы, которые определяют наказание за мнение, или по крайней мере за выражение мнения, и законы эти не до такой степени потеряли свое значение, применение их не до такой степени беспримерно даже и в наше время, чтоб мы могли считать совершенной невероятностью, чтоб они когда-либо ожили с полной силой. На летних ассизах в 1857 г., в графстве Корнуолл, человек[1] безупречного (как говорят) во всех отношениях поведения был приговорен к заключению в тюрьму на двадцать один месяц за то, что написал где-то на дверях какие-то слова, оскорбительные будто бы для христианства. Около того же времени в Ольд-Бейли, в двух отдельных случаях двое[2] не были допущены до исполнения обязанности присяжных, потому что прямо объявили, что не имеют никакой веры, при чем один из них был грубо оскорблен судьей и одним из членов суда. Одному иностранцу[3] по той же причине отказано было в правосудии против вора. Этот отказ в правосудии сделан был на основании той легальной доктрины, что никто не может быть допущен до свидетельства в суде, кто не верит в Бога и в будущую жизнь. Но равносильно ли это тому, как если бы прямо было признано, что люди, не верующие в Бога и в будущую жизнь, стоят вне закона и лишаются покровительства судов, — что можно безнаказанно грабить и оскорблять не только их самих, но и всех других людей, если только бывшие при этом свидетели не имеют известных мнений. Доктрина эта имеет своим основанием то предположение, что клятва человека неверующего в будущую жизнь, не имеет никакой цены. Предположение это обнаруживает в его защитниках крайнее неведение истории. Можно ли не знать, что по большей части те люди, которые своими добродетелями и своими благими стремлениями заслужили себе самую чистую славу, были неверующие, как это свидетельствуют близко их знавшие. Кроме того надо заметить, что эта доктрина сама в себе носит свое осуждение, сама разрушает свою собственную основу; исходя из того предположения, что атеисты — лжецы, она допускает к свидетельству тех атеистов, которые в самом деле лгут, и не допускает только тех, которые довольно честны, чтобы не лгать, и предпочитают лучше подвергнуть себя всем тяжелым последствиям, какие имеет для них честное выражение их убеждений. Доктрина, основанная на таком предположении, есть, без сомнения, нечто иное, как выражение ненависти, как орудие преследования, и при том — орудие, имеющее ту отличительную особенность, что человек навлекает его на себя именно тем самым своим действием, которое, наоборот, представляет очевидное доказательство, что он такого преследования не заслуживает: человека признают лжецом за то самое его действие, которое, напротив, свидетельствует о его честности. Едва ли эта доктрина столько же неосновательна и по отношению к верующим, как и по отношению к неверующим: если тот, кто не верит в будущую жизнь, необходимо должен быть лжецом, то из этого следует, что тот, кто верит, не лжет только потому — если в самом деле не лжец — что боится ада. Мы не хотим оскорблять виновников и приверженцев этой доктрины, — мы не хотим предполагать, чтобы такое понятие о христианской добродетели имело своим источником их личное сознание, — мы готовы признать, что это не более, как лохмотье, обрывок прежнего времени, на который следует смотреть скорее не как на признак желания преследования, а как на один из примеров того, столь часто встречающегося у англичан, умственного недостатка, что они находят какое то странное удовольствие упорно отстаивать какой-нибудь дурной принцип, хотя сами давно уже стали не так дурны, чтобы желать действительного его применения. Но, к несчастию, умственное состояние современного общества не представляет нам никаких ручательств, чтобы самые даже худшие орудия легального преследования не могли быть снова употреблены в дело. Те попытки, которые в наш век, по временам, хотя на поверхности несколько смущают невозмутимую тишь и гладь рутины, — эти попытки столь же часто имеют своею целью восстановление прежних зол, как и достижение какого-либо нового блага. То, что в настоящее время обыкновенно превозносится как возрождение религии, на самом деле в узких и неразвитых умах есть столько же возрождение религии, как и возрождение фанатизма; в чувствах нашего народа до сих пор существует сильная закваска нетерпимости, которой всегда отличались наши средние классы, и немного надо, чтобы вызвать эти чувства на преследование тех мнений, которые, собственно говоря, наше общество и не переставало никогда считать заслуживающими преследования[4]. Именно в этом, т.е. в мнениях и чувствах, которые преобладают в нашем народе по отношению к людям, не разделяющим тех его верований, которые он считает наиболее важными, — именно в этом и заключается причина, почему Англия до сих пор еще не стала страной умственной свободы. У нас давно уже главное зло легальных преследований и состоит именно в том, что эти преследования на самом деле суть не что иное, как исполнение приговоров самого общества. В нетерпимости нашего общества и заключается главное зло, — зло столь сильное, что мы чаще встречаем в других странах выражение мнений, которые там влекут за собой судебное преследование, чем в Англии выражение таких мнений, которые хотя и не влекут за собой легальные кары, но осуждаются обществом. За исключением людей, имеющих также средства к существованию, которые ставят их в совершенную независимость от других, за этим исключением для всех остальных людей осуждение общества равносильно легальной каре, — тут вся разница в том, что людей не сажают за мнения в тюрьму, а лишают их насущного хлеба. Что же касается до тех, которые имеют совершенно обеспеченные средства к существованию и в этом отношении не нуждаются в благосклонности к ним других людей или общества, то такие люди, высказывая какое бы то ни было мнение, ничем иным не рискуют, как разве только тем, что о них будут дурно думать, дурно говорить. Такой риск, конечно, не предполагает никакого особенного героизма со стороны тех, кто ему подвергается, — тут еще нет, конечно, такого зла, ради которого можно было бы взывать ad misericordiam. Однако заметим при этом, что хотя мы теперь уже и не подвергаем тех, кто с нами не согласен, таким сильным карам, каким подвергали их прежде, но наш теперешний образ действия по отношению к ним едва ли не причиняет нам самим не меньший вред, чем какой когда-либо причиняли всевозможные преследования. Сократ был предан смерти, но философия Сократа, как солнце, взошла и осветила весь умственный горизонт человечества. Христиан бросали на съедение львам, но христианская церковь выросла могучим, величественным деревом, которое переросло все старые деревья и заглушила их своею тенью. Наша нетерпимость, чисто общественная, не убивает людей за мнения, не вырывает мнения с корнем, но она производит то, что люди скрывают свои мнения, или воздерживаются от всякого деятельного усилия к их распространению: в наш век, не так как прежде, мы не видим, чтобы каждое десятилетие или с каждым новым поколением заметно усиливались или слабели те или другие еретические мнения. Теперь эти мнения никогда не горят широким и ярким светом, а только тлеют в тесных кружках людей науки и мысли, где получают свое происхождение, — общее течение дел человеческих не озаряется более новыми лучами света, ни истинными, ни ложными. Такой порядок вещей многие находят совершенно удовлетворительным, так как он охраняет внешний покой господствующих мнений, не прибегая для этого к неприятной процедуре — сажать людей в тюрьмы или подвергать их каким-либо карам, и в то же время не запрещать совершенно деятельность мысли тем людям, которые страдают болезнью — мышления: он сохраняет покой в умственном мире и предоставляет наиболее ручательств, что и завтра все будет идти так же, как шло сегодня. Но поклонники этого порядка вещей забывают, какой дорогой ценой покупается это умственное замирение: ради него мы жертвуем всем нравственным мужеством человеческого ума. Такие условия жизни, когда самые деятельные и самые пытливые умы находят нужным скрывать настоящие принципы и основания своих убеждений и, обращаясь к обществу, связывать свои убеждения с такими посылками, от которых внутренне давно уже отреклись, — такие условия жизни не могут, конечно, образовать таких прямых, мужественных характеров, таких сильных, логических умов, какими некогда славился умственный мир. При этих условиях мы находим только таких людей, которые раболепствуют перед тем, что существует, — или же только таких прислужников истины, которые не служат истине прямо теми аргументами, которые убедили их самих, а соображают свою аргументацию с требованиями своих слушателей. Те же люди, которые не могут раболепствовать, или которые не хотят подчинять истину требованиям толпы, — те люди вынуждены суживать свои мысли и стремления такими предметами, о которых можно говорить, не затрагивая принципов, т.е. теми мелкими практическими предметами, которые сами собой нашли бы свое разрешение при сильной и широкой умственной жизни, и которые не могут достигнуть разрешения, пока люди не будут прямо и смело относиться ко всем великим вопросам человеческой жизни, потому что без этого невозможна сколько-нибудь сильная и широкая умственная жизнь.
Те, которые не видят в этом порядке вещей ничего дурного, должны бы были прежде всего принять во внимание, что при этом порядке еретические мнения никогда не подвергаются полному и всестороннему обсуждению, и что те из этих мнений, которые никогда не были в состоянии выдержать подобного осуждения, хотя и не распространяются, но тем не менее существуют. Притом, общественное осуждение, тяготеющее над всякого рода исследованием, которое несогласно в своих выводах с ортодоксией, делает главным образом вред собственно не еретикам, а, напротив, тем, кто верен ортодоксии: для них, главным образом, оно и составляет препятствие к умственному развитию и сковывает их ум страхом впасть в какую-нибудь ересь. Сколько людей случается нам встречать, которые с робким характером соединяют в себе самые высокие дарования, и как исчислить ту великую потерю, какую несет мир от того, что эти люди не имеют довольно мужества, чтобы идти по указанию какой-нибудь смелой, сильной и независимой мысли, а находятся постоянно под влиянием страха, чтобы такая мысль не привела их к выводам, которые могли бы быть признаны антирелигиозными или безнравственными? Между этими людьми находим мы нередко таких, которые отличаются самой высокой добросовестностью, самым тонким, проницательным умом, и которые, будучи не в состоянии заставить умолкнуть свой разум, проводят всю жизнь в том, что пробавляются пустой софистикой и тратят все свои силы в попытках, часто совершенно бесплодных, согласить с ортодоксией указания своей совести и своего разума. Каких бы великих дарований человек ни был, не может он сделаться великим мыслителем, если не признает первым своим долгом следовать указаниям разума, к каким бы выводам разум его ни приводил. Истина даже более выигрывает от заблуждений тех людей, которые, имея надлежащую подготовку, мыслят самостоятельно, чем от правильного суждения тех, которые имеют правильные мнения только потому, что сами не дерзают мыслить. Не для того исключительно и не для того главным образом необходима свобода мысли, чтобы могли образоваться великие мыслители; напротив, она в такой же степени и даже еще в большей необходима для того, чтоб сделать для людей вообще достижимой ту степень умственного развития, к какой они способны. Бывали и снова могут явиться великие мыслители и при общем умственном рабстве; но при этом рабстве никогда не было и не может быть умственно развитого народа. Если какой народ достигал когда большей или меньшей степени умственного развития, то единственно потому, что, по крайней мере, хотя на время, был свободен от страха перед еретическими мнениями. Но там, где принципы стоят вне критики, где обсуждение величайших вопросов человеческой жизни считается завершенным, там нельзя надеяться, чтобы могла когда-нибудь развиться такая умственная деятельность, какою ознаменовались некоторые исторические эпохи. Только в те времена, когда критика свободно относилась к самым важным предметам, способным возбуждать энтузиазм в людях, только в те времена и существовала значительная умственная деятельность, которая давала иногда такой сильный толчок всей умственной жизни народа, что даже люди самых обыкновенных способностей в большей или меньшей степени достигали достоинства мыслящих существ. Такой пример представляет нам положение Европы во времена, непосредственно следовавшие за Реформацией. Другой пример — философское движение во второй половине восемнадцатого столетия, которое впрочем ограничилось только континентом и, притом, только образованным классом общества. Наконец, третий пример — умственное движение в Германии во времена Гете и Фихте. Все эти три эпохи существенно различны по идеям, но имеют то сходство, что умственная жизнь их была свободна от ига авторитетов, прежний умственный деспотизм был ниспровергнут, а новый еще не успел установиться. Умственная деятельность этих эпох и сделала Европу тем, чем она есть теперь: ей Европа обязана всем улучшением, всем своим прогрессом как в умственной жизни, так и в учреждениях. С некоторого времени стали появляться признаки, свидетельствующие, что движение, сообщенное жизни умственной деятельностью этих эпох, истощило уже свои силы и близко к совершенному замиранию, а нового возрождения умственной жизни нельзя ожидать, пока не будем иметь умственной свободы.
Перейдем теперь к другой гипотезе; предположим, что преследуемое мнение есть заблуждение, а охраняемое есть истина, и посмотрим, какие последствия имеет признание истины недоступной для свободной критики. Как бы человек ни был тверд в своих убеждениях, как бы он ни был нерасположен допустить предположение, что его убеждение может быть ошибочно, но не может же он быть равнодушен, когда то, что он считает истиной, по причине своей недоступности для свободной, всесторонней, бесстрашной критики, превращается из живой истины в мертвую догму.
Есть люди (к счастью теперь их меньше, чем было прежде), которые находят совершенно достаточным, если человек исповедует то, что есть истина, хотя бы при этом он не имел ни малейшего понятия об основаниях этой истины, был бы не в состоянии защитить ее против самых даже поверхностных возражений. Имея известное credo, подобные люди обыкновенно думают, что если дозволить рассуждать об этом credo, то из этого не может выйти ничего доброго, а выйдет одно зло. При преобладающем влиянии таких людей почти невозможно, чтобы господствующее мнение могло встретить обдуманное, сознательное отрицание, но оно весьма легко может подвергнуться отрицанию совершенно необдуманному, ни на чем неоснованному; редко бывает возможно совершенно прекратить мысли всякий доступ к обсуждению какого-нибудь предмета, и как только мысль успевает проложить себе путь так или иначе, то истина, составляющая только предмет веры и не ставшая убеждением, оказывается, обыкновенно, не в состоянии выдержать самого даже поверхностного аргумента. Но положим, что это не так, — положим, что истина, не делаясь предметом убеждения, а как предмет веры, как предрассудок, столь сильно укореняется в человеческом уме, что против нее бессильны всякие аргументы, — но разве это есть знание истины? Разве такое знание может назвать знанием мыслящее существо? И наконец, разве такая истина не есть то же суеверие, с той только разницей, что суеверие в этом случае облекается в такие слова, которые выражают истину?
Если мы признаем, что люди должны совершенствовать свои умственные способности, — чего протестанты по крайней мере не отрицают, — то над чем же и упражняться этим способностям, как не над теми предметами, которые считаются столь важными для людей, что признается необходимым, чтобы люди имели о них установившиеся мнения? Если не всякое знание имеет одинаковое значение для нашего умственного совершенствования, то не первое ли место в этом отношении принадлежит знанию того, что мы признаем истиной? Признавая делом первой важности, чтобы люди имели правильные суждения об известных предметах, не должны ли мы признать не менее важным и то, чтобы они были в состоянии защитить свои суждения по крайней мере против самых обыкновенных возражений. Нам могут возразить, «что обучают не только мнениям, но и основаниям этих мнений. Если мнения об известных предметах не подвергаются оспариванию, то из этого вовсе не следует, чтобы люди должны были не понимать их, а только заучивать, как попугаи. Знание геометрии состоит не в том, чтобы выучить наизусть теоремы, а в том, чтобы понимать их и уметь их доказывать, но никто не станет утверждать, что люди не знают оснований геометрических истин, потому что не слыхали никогда никаких возражений на них, не встречали никаких попыток их опровергнуть». Относительно такого предмета, как математика, подобное знание, конечно, есть полное знание: в этом и состоит особенность математических истин, что тут все аргументы — на одной стороне, что тут нет возражений и, следовательно, не может требоваться никаких ответов на возражения. Но в таких предметах, относительно которых возможны различные мнения, истина получается не иначе, как через сравнение противоположных аргументов. Даже при изучении природы, и здесь всегда возможны различные объяснения одних и тех же фактов, возможна теория геоцентрическая и -теория гелиоцентрическая, возможна и теория флогистона и теория кислорода, — и чтобы признать какую-нибудь из них истинной, надо доказать, что другая не есть истина, а пока это не доказано, или пока мы не знаем, как это доказывается, то, признавая одну из них истинной, не знаем, значит, оснований мнения, которого держимся. Если же мы обратимся к предметам, несравненно более сложным, каковы: нравственность, религия, политика, общественные отношения и вообще вопросы человеческой жизни, то мы увидим, что три четверти аргументов, на которых основывается известное мнение, заключается не в чем ином, как в опровержении того, что может служить основанием для другого несогласного с этим мнения. Говорят, что Цицерон всегда изучал тезис своего противника с таким же, если не с большим вниманием, чем свой собственный тезис. Так поступал величайший после Демосфена оратор древности для достижения ораторского успеха; так же должен поступать каждый, кто изучает предмет, для достижения истины. Тот, кто знает об известном предмете только свое собственное о нем мнение, тот еще знает весьма немного, и как бы ни были хороши основания его мнения, даже если бы никто не мог их опровергнуть, но если он в то же время и сам не может опровергнуть оснований противного мнения, или даже вовсе и не знает их, то и не имеет, значит, никакого основания предпочитать одно мнение другому. Действуя рационально, он должен в таком случае воздержаться от опрометчивого суждения, а если поступит иначе, то, значит, он или подчинится какому-нибудь авторитету, или же примет то мнение, к которому чувствует особую наклонность, — как это обыкновенно и делает большая часть людей. Недостаточно слышать аргументы противного мнения от учителей другого мнения, которые обыкновенно представляют их на свой манер, сопровождая эти аргументы тем, чем, по их мнению, они опровергаются. Не этим путем может достигнуть человек действительного знания аргументов противного мнения, и не этим путем может он оценить их надлежащим образом. Он должен слышать их от тех самых людей, которые признают их силу, которые убеждены в истинности того мнения, которое на них основывается, и одушевлены стремлением доказать его истинность, — он должен знать эти аргументы в их самой сильной, самой убедительной форме, — должен знать те затруднения, какие встречает истина, во всей их силе, а иначе он никогда не овладеет вполне той частью истины, которая их опровергает. В таком именно состоянии и находятся девяносто девять на сто из числа так называемых образованных людей, и даже из числа тех, которые умеют весьма красноречиво защищать свои мнения. Заключения их могут быть истинны и могут быть ложны на таком основании, которое им даже и неизвестно. Они никогда не становятся на точку зрения тех людей, которые думают иначе, чем они, никогда не вникают надлежащим образом в то, что могут сказать их противники, и следовательно, говоря в строгом смысле, не знают даже и той доктрины, которую сами защищают; не знают тех частей этой доктрины, которыми объясняются и оправдываются остальные ее части, тех оснований, которые показывают, каким образом факты, по-видимому, совершенно между собой несогласуемые, на самом деле нисколько друг другу не противоречат, или почему из двух противных друг другу и, по-видимому, равносильных аргументов следует отдать предпочтение тому, а не другому. Им, обыкновенно, неизвестна вся та часть истины, которая собственно и определяет суждение людей, вполне ею владеющих. Только тот вполне знает истину, кто с равным вниманием и с равным беспристрастием изучал все различные мнения и равно уяснил себе все аргументы всех различных мнений. Это до такой степени существенно необходимо для действительного понимания нравственных вопросов и вообще вопросов человеческой жизни, что если бы истина не имела противников, то необходимо было бы предположить, что противники существуют, и самому себе противопоставить самые сильные аргументы, какие только может изобрести самый ловкий адвокат дьявола.
Для того, чтобы ослабить силу представленных нами соображений, противники свободного выражения мнений могут заметить, что нет никакой необходимости в том, чтобы все люди знали и понимали все, что может быть сказано pro или contra их мнений философами и теологами, — что всем людям вообще нет надобности уметь обличать искажения или софизмы искусного противника, — довольно, если только некоторые из них будут способны на это, и таким образом ничто не будет оставаться без опровержения, что только может ввести в заблуждение людей необразованных, — простым же людям достаточно знать главные основания истины, а остальное они могут принять на веру, и сознавая, что не имеют ни знания, ни таланта, чтобы разрешить встретившееся затруднение, могут положиться на то, что эти затруднения уже опровергнуты или могут быть опровергнуты теми, кто этим специально занимается.
Но если мы даже сделаем всевозможные уступки в пользу этой доктрины, каких только могли пожелать от нас люди, довольствующиеся наименьшею степенью понимания того, во что верят, то и в таком случае представленные нами соображения в пользу свободного выражения мнений нисколько не утратят своей силы, так как эта доктрина признает, что люди должны иметь рациональную уверенность в том, что все возражения против признаваемых ими истин удовлетворительным образом опровергнуты. Но каким же образом могут быть опровергнуты возражения, когда они не могут быть высказаны? Как можем мы знать, что возражение удовлетворительно опровергнуто, если неудовлетворительность опровержения не может быть указана? Если не публика, то по крайней мере те философы и богословы, которым предназначено опровергать возражения, должны вполне знать то, что опровергают; но возможно ли это для них, если эти возражения не могут быть свободно высказаны со всей силой убеждения, какая только им доступна. Католическая церковь разрешает это затруднение на свой манер. Она разделяет людей на два разряда: одним дозволяется убеждаться в истине их доктрин, а другие обязаны принимать их на веру. Ни тем, ни другим, конечно, свобода мысли равно не дозволительна; но духовенству, или той части духовенства, которая признается заслуживающей доверия, дозволительно и даже похвально знакомиться с аргументами противников, для того чтобы опровергать их, — оно может читать для этой цели еретические книги, прочие же их не иначе могут читать, как по особому специальному разрешению, которое получить весьма трудно. Итак, католическая церковь признает, что учителям ее доктрин полезно знать мнения противников, но отвергает пользу этого знания для всего остального мира, — она дает своим избранным более широкое умственное образование, но не большую степень умственной свободы, чем массам. Таким образом достигает она той степени умственного совершенствования, которая ей нужна для ее целей: конечно, образование без свободы не может создать широких и либеральных умов, но оно создает искусных nisi prius адвокатов, что ей и нужно. Но так может поступать только одна католическая церковь; протестантские же страны лишены этого средства; так как протестантизм, по крайней мере в теории, признает, что каждый сам по себе несет ответственность в выборе религии и ни в каком случае не может сложить ее на своих учителей. Кроме того, при теперешнем состоянии мира практически невозможно устроить так, чтобы сочинения, читаемые образованными людьми, не могли быть читаемы и людьми необразованными: следовательно, если учителя человечества должны иметь полное знание всего, что должны знать, то надо установить полную свободу писать и печатать все, без всякого ограничения.
Впрочем, если бы зло от несвободы мнений, когда охраняемые мнения истины, ограничивалось только тем, что люди не знают оснований того, что считают истиной, то могли бы подумать, что отсутствие свободы есть зло только по отношению к умственному развитию, а не по отношению к нравственности, — что оно нисколько не ослабляет нравственного достоинства мнений, т.е. того достоинства, которое измеряется их влиянием на характеры людей. Но на самом деле совсем не то. На самом деле вследствие несвободы мнений люди не только не знают основания того, что признают истиной, но сама эта истина утрачивает для них всякий смысл, — выражающие ее слова перестают возбуждать в них, или же возбуждают только отчасти, те идеи, которые ими первоначально выражались. Пропадает живое сознание, живая вера, и от всей истины ничего не остается, кроме нескольких фраз повторяемых из одной привычки, а если и остается что, то разве только скорлупа или шелуха, а самая эссенция гибнет. Этот факт имеет великое значение в истории человечества и поэтому требует самого внимательного рассмотрения.
Мы встречаем этот факт в истории почти всех этических доктрин и всех религиозных верований. Для первых учителей и для непосредственных их учеников доктрины и верования полны смысла и жизни. Их смысл воспринимается людьми с не меньшей, и может быть даже с большей силой, с более полным сознанием, пока длится борьба о преобладании над другими доктринами или верованиями. Потом они или достигают преобладания и становятся общепризнанной истиной, или же их прогресс останавливается, они вступают в обладание тем, что завоевали, и далее уже не распространяются. По мере того, как выясняется тот или другой из этих результатов, возбужденные ими споры слабеют и постепенно замирают. Наконец, они занимают известное место, если не как общепризнанные истины, то как терпимые секты или терпимые отступления от общего мнения: тогда они уже более никого не обращают, их исповедуют только те, кто получает их по наследству, — обращение в них людей, исповедующих другие доктрины и верования, становится явлением столь редким, столь исключительным, что учителя их перестают наконец и заботиться об этом. Вместо того, чтобы быть, как в первое время, в постоянном напряжении для защиты себя или для достижения преобладания над другими, они впадают в инерцию, не слушают, если только могут не слушать, никаких против себя аргументов, и не беспокоя своими аргументами тех, кто с ними не согласен (если только такие есть). С этого момента и начинает вымирать бывшая в них живая сила.
Мы часто слышим от учителей разных верований жалобы на то, как трудно поддерживать в умах верующих живое сознание истины, как трудно достигать того, чтобы истина проникла в их сердце и действительно руководила их поступками. Но мы не встречаем подобных жалоб, пока верования еще не закончили своей борьбы за существование: тогда даже самые слабые их бойцы знают и чувствуют то, за что сражаются, знают, чем их доктрина отличается от других доктрин. В этот период, который одинаково переживают все верования, немало встречается людей, которые реализовали основные принципы своей веры во всех формах мысли, взвесили и рассмотрели их со всех важных сторон и опытом вполне изведали влияние, какое может произвести их вера на человека, вполне убежденного в ее истинности. Но когда эта вера становится предметом, передаваемым по наследству, когда она принимается пассивно, а не активно, когда исповедующий ее не вынужден более, как в первое время, напрягать все силы своего ума для разрешения вопросов, которые она возбуждает, тогда начинает обнаруживаться в верующих прогрессивно возрастающая наклонность держаться исключительно формул, забывая их смысл, или относится к этому смыслу тупо и бездейственно; в них замирает мало-помалу потребность возводить доктрину в сознание и реализовать ее в действительной жизни, и доктрина утрачивает наконец всякую связь с их внутренней жизнью. Тогда и совершается с людьми то, что в настоящее время едва ли не совершилось с большинством людей: религиозное верование становится для внутренней жизни человека как нечто внешнее, как будто кора, которая охраняет ее от всех влияний, обращающихся к высшим свойствам нашей природы, — вся его сила заключается как будто в том, что оно не допускает никаких живых убеждений, — будучи мертво и для ума и для сердца, оно более ничего не делает, как только охраняет их пустоту.
До какой степени даже те доктрины, которые по внутреннему своему содержанию в высшей степени способны иметь над людьми самое сильное влияние, до какой степени даже и эти доктрины могут превращаться в пустую веру, совершенно мертвую для внутренней жизни человека, для его понятий, — примером этому может служить то значение, какое доктрины христианства имеют в настоящее время для большинства верующих. Я разумею под христианством то, что под ним разумеют все церкви и секты, — правила и наставления, заключающиеся в Новом Завете. Все носящие имя христиан признают, что эти правила и наставления священны, что они суть закона, а между тем едва ли будет преувеличением сказать, что из тысячи так называемых христиан не найдете ни одного, который бы руководился ими в своих суждениях и поступках. Верующий нашего времени руководится в жизни не тем, что признает священным законом, а тем, что есть обычай его народа, его класса, его секты. Перед ним, с одной стороны, собрание нравственных правил, которые, как он верует, даны непогрешимой мудростью, дабы он руководился ими в земной жизни, — а с другой стороны — перед ним собрание суждений и правил, сложившихся непосредственно практикой жизни, которые иногда согласны со священными правилами, а иногда и не согласны, иногда даже совершенно противоречат им и вообще представляют собой компромисс между христианской верой и между земными интересами и побуждениями: первым он воздает поклонение, а вторые он исполняет. Все христиане веруют, что блаженны бедные и нищие духом, все плачущие и страждущие в этом мире, — что легче верблюду пройти сквозь игольное ухо, чем богатому войти в царствие небесное, — что не должны они осуждать других, для того чтобы их самих не осудили, — что не надо божиться, — что ближнего надо любить, как самого себя, — что если кто взял у вас верхнюю одежду, то отдайте ему и кафтан, — что не надо заботиться о завтрашнем дне, — что если хотят быть совершенны, то должны продать все, что имеют и раздать бедным. И когда они говорят, что веруют в эти доктрины, они нисколько не лгут, они говорят совершенно искренно, — они веруют в них так, как обыкновенно человек верует в то, что перед ним постоянно превозносят, но о чем никто никогда не рассуждает: это — не та живая вера, которая бы управляла жизнью человека, а вера мертвая. Собственно же говоря, эти доктрины составляют предмет веры не более, как настолько, насколько в обычае их исполнять, — в чистоте же своей они употребительны в настоящее время только как орудие против противников; их обыкновенно выставляют (если только есть возможность к тому) как причину поступка, когда человек сделает что-нибудь похвальное, — утверждают, что человек потому будто бы и поступил хорошо, что их исповедует. Если бы кто вздумал напомнить, что доктрины эти требуют многого такого, чего христиане нашего времени не имеют даже и в помыслах, то это напоминание поведет разве только к тому, что напоминающий навлечет на себя все нерасположение, с каким обыкновенно люди относятся к человеку, в котором видят притязание быть лучше, чем они. В наш век христианские доктрины не имеют более никакой власти над верующими в них, никакого влияния на их умы. Верующие не перестают еще с привычным уважением произносить те слова, в которых выражаются признаваемые ими доктрины, но слова эти уже более не пробуждают в них того чувства, которое бы воспринимало самый смысл слов, возводило его в сознание и таким образом делало бы его руководителем жизни. Когда верующему предстоит решиться на какой-нибудь поступок, он обыкновенно справляется с тем, что делает А, что делает Б, и это служит ему указанием, насколько должен он исполнять исповедуемые им доктрины.
Не подлежит сомнению, что не так было у первоначальных христиан. Если бы христианство и в первое время было тем же, чем оно стало теперь, то никогда не сделалось бы оно из ничтожной секты презираемого народа религией Римской империи. Когда враги христиан говорили о них: «смотри, как эти люди любят друг друга» (такого замечания теперь никто не сделает), тогда, конечно, у этих христиан было более живо сознание своих верований, чем какое мы встречаем в последующие времена. Упадку живого сознания христианство, по всей вероятности, главным образом и обязано тем, что в настоящее время делает так мало успехов, — оно более почти уже не распространяется и до сих пор, после восемнадцати столетий существования, признается только почти одними европейцами и потомками европейцев. Даже люди самые религиозные, самые строгие ревнители своих верований, проникнутые самым глубоким, какое только теперь встречается между людьми, сознанием, по крайней мере, некоторых своих доктрин, — даже и эти люди, обыкновенно, обнаруживают действительно живое, говоря сравнительно, сознание только той части доктрины, какую они получили от какого-нибудь Кальвина, Нокса, или вообще от человека, более или менее подходящего к ним по своему характеру; изречения же Христа существуют при этом в их уме как бы пассивно, едва ли производя на них большое действие, чем какое вообще способны производить на человека слова, исполненные столь высокого духа любви и кротости. Конечно, мы можем привести много причин для объяснения, почему именно доктрины, составляющие знамя того или другого учения, сохраняют большую жизненную силу, чем те доктрины, которые общи всем им, почему относительно их учителя веры обнаруживают большую ревность; но какие бы причины мы ни приводили, во всяком случае главная причина заключается в том, что сектантские доктрины чаще подвергаются нападениям и чаще требуют защиты: когда в поле нет более врагов, то обыкновенно бывает так, что и учителя и ученики засыпают на своем посту.
Говоря вообще, изложенное нами замечание одинаково верно относительно всякого рода доктрин, которые передаются от одного к другому по преданию, а не только относительно доктрин нравственных или религиозных. Во всех языках, во всех литературах находим мы множество изречений, заключающих в себе вывод из жизненного опыта; изречения эти составляют для всех несомненную, очевидную истину, их все знают, все повторяют, все признают их истинными, а между тем то, что в них выражается, для большей части людей не прежде делается живой истиной, как когда уже их тому научит более или менее горький опыт. Как часто человек, подвергаясь бедствию или неудаче, припоминает какую-нибудь поговорку или изречение, которое он так часто слышал и так часто повторял в своей жизни и которое предохранило бы его от бедствия, если бы он и прежде сознавал его так же, как сознает теперь! Этому, конечно, могут быть и другие причины, а не только отсутствие критики: есть такие истины, которые человек не иначе может вполне сознать, как путем личного опыта. Но даже и такого рода истины были бы более и лучше понимаемы, человек глубже бы проникался ими, если бы ему случалось слышать рассуждение о них тех людей, которые их сознают. Вообще люди имеют бедственную для них наклонность безучастно относиться к тому, что представляется им несомненным, и эта наклонность, обыкновенно, бывает причиной большей части их ошибок. Один современный нам писатель очень хорошо описал этот «глубокий сон установившегося мнения».
Но неужели же (могут мне сказать) разногласие в мнениях есть необходимое условие истинного знания? Неужели необходимо, чтобы одна часть человечества оставалась в заблуждении для того, чтобы другая была способна сознавать истину? Неужели люди утрачивают истину, как скоро она делается истиной всего человечества? До сих пор признавалось, что высшая цель, лучший результат, к какому только может стремиться ум человеческий, состоит в том, чтобы убедить человечество в сознанных им истинах, — неужели же этот ум с достижением цели утрачивает понимание своих истин и, таким образом, окончательное достижение цели губит самую цель?
Я ничего подобного и не утверждаю. Конечно, с прогрессом человечества должно постоянно возрастать число бесспорных и несомненных доктрин, и благосостояние людей может даже быть отчасти измеряемо числом и важностью доктрин, которые достигли несомненности. Конечно, серьезный спор по какому-нибудь вопросу должен неизбежно прекращаться по мере того, как устанавливается о нем общее мнение, что столько же полезно, когда устанавливается мнение истинное, сколько опасно и вредно, когда устанавливается мнение ложное. Но хотя такое постепенное уменьшение предметов, по которым происходит столкновение мнений, и необходимо в обоих смыслах этого слова, т.е. необходимо потому, что неизбежно, и потому, что есть условие прогресса, однако из этого еще вовсе не следует, чтобы и все последствия этого были непременно хороши. Необходимость разъяснить истину, защищать ее против противников весьма сильно содействует правильному, живому ее пониманию, и эта польза от столкновения различных мнений хотя и не перевешивает, конечно, той пользы, какая получается от общего признания истины, но тем не менее весьма важна. Признаюсь, я полагаю даже желательным, чтобы наставники человечества придумывали различные мнения по тем вопросам, по которым различие в мнениях уже более не существует, — чтобы они изобретали какие-нибудь затруднения для признания истины, возражения, которые бы для их учеников имели такое же значение, как если бы были предъявлены противниками, желающими обратить их в противное мнение.
Но вместо того, чтобы изобретать средства для получения той пользы, какая происходит от столкновения мнений, наставники человечества утратили даже и те средства, какие имели прежде. Одним из таких средств была сократовская диалектика, которой Платон представил нам великолепный образчик в своих диалогах. Сущность этой диалектики состояла в отрицательной критике великих вопросов науки и жизни. Критика эта была направляема с великим искусством к той цели, чтобы убедить человека, бессознательно повторяющего общепризнанные истины, что он не понимает этих истин, что исповедуемые им доктрины не имеют для него никакого ясно определенного смысла, -и чтобы, убедив таким образом человека в его невежестве, сделать его способным достичь действительного знания истины, которое бы основывалось на ясном понимании как смысла доктрины, так и оснований ее несомненности. Подобную же отчасти цель имели и диспуты в средневековых школах: они служили средством удостовериться, что ученик понимает свое мнение и мнение противника (что и невозможно одно без другого), что он в состоянии доказать первое и опровергнуть второе. Средневековые диспуты имели, конечно, тот неисправимый для них недостаток, что посылки их опирались на авторитет, а не на разум, и потому они, как средство для умственного развития, стоят во всех отношениях ниже могучей диалектики, образовавшей Socratii viri. Но во всяком случае, теперешним своим умственным состоянием человечество много обязано обоим этим средствам, и диалектике, и диспутам, — оно обязано им гораздо более, чем как это обыкновенно думают, и теперешний способ воспитания не представляет нам ничего, что заменяло бы их хоть сколько-нибудь. Даже те люди, получающие все свое образование от учителей или из книг, которые не поддаются обычному в этом случае искушению довольствоваться одним выучиванием без понимания, — даже и те люди не встречают обыкновенно никакого особенного побуждения внимательно изучить обе противоположные стороны вопроса: вследствие этого полное знание обеих сторон редко встречается даже и у мыслителей, и обыкновенно самую слабую часть всех мнений составляет именно то, что приводится ими как аргумент против противников. Теперь в моде относиться с небрежением к отрицательной логике, т.е. к той логике, которая ограничивается указанием слабых сторон теории или ошибок практики, но сама не приводит ни к каким положительным истинам. Такой отрицательный критицизм не может, разумеется, служить конечной целью, но как средство для достижения положительного знания или убеждения, которое бы заслуживало называться убеждением, он неоценим, и пока люди опять не будут систематически проходить через школу этого критицизма, до тех пор немного будет у нас великих мыслителей и невысоко поднимется средний уровень умственного развития, исключая разве только по отношению к предметам математики и физики. Знание человека о каком бы то ни было предмете, за исключением предметов математики и физики, только в таком случае и заслуживает называться знанием, если оно прошло через весь тот умственный процесс, который обыкновенно совершается в человеке, когда он выдерживает спор с действительным оппонентом. Если критика мнения до такой степени полезна для самого мнения, которое критикуется, до такой степени необходима, что если нет действительного оппонента, то надо как-нибудь заменить его, и так как подобная замена весьма трудна, то, очевидно, это более чем безрассудство, — уклоняться от критики, когда критика сама просится, чтоб ее выслушали. Следовательно, когда оказываются люди, которые оспаривают общепринятое мнение или желали бы его оспаривать, если бы только закон или общественное мнение им это дозволяли, то будем им благодарны за то, выслушаем внимательно все, что они имеют сказать: они для нас сделают то, что в противном случае мы сами должны были бы для себя сделать, если только дорожим истинностью или жизненностью своих убеждений, и что представило бы для нас немалую трудность.
Нам остается рассмотреть еще одну из главных причин, почему различие мнений полезно и будет полезно до тех пор, пока человечество не достигнет такой степени умственного развития, от которого мы в настоящее время еще неизмеримо далеко. Мы до сих пор рассмотрели только две гипотезы: мы предположили сначала, что общепринятое мнение может быть ложно, и что истина, следовательно, может быть на стороне какого-нибудь непризнанного мнения, а потом — что общепринятое мнение истинно, и нашли, что в таком случае столкновение этого мнения с заблуждением существенно необходимо для ясного понимания и живого сознания самой той истины, которая заключается в общепринятом мнении. Нам остается сделать еще третье предположение, которое действительная жизнь осуществляет гораздо чаще, чем оба первые, а именно: что ни одна из спорящих между собой доктрин ни истинна, ни ложна, а что все они частью истинны и частью ложны, -что непризнанная доктрина необходима для полноты той истины, часть которой заключается в доктрине общепризнанной. По предметам, которые не подлежат нашим чувствам, общепринятые мнение часто бывают истинны, но редко или даже никогда не заключают в себе всей истины, а только одну часть ее, большую или меньшую, и притом почти всегда преувеличенную, искаженную, оторванную от тех истин, которые необходимо должны ей сопутствовать и ограничивать ее. С другой же стороны еретическое мнение, обыкновенно, есть не что иное, как часть истины, заключающейся в общепринятом мнении, которая этим мнением задавлена или не признана, и стремится или дополнить общепринятую часть истины, или же, относясь к господствующему мнению, как к врагу, заступить его место, как будто бы заключает в себе всю истину. Стремление еретических мнений к исключительному господству было до сих пор общим явлением, так как до настоящего времени умственная односторонность всегда составляла правило, а многосторонность была только исключением. По причине этой односторонности, даже в те эпохи, когда общее мнение подвергалось революционному перевороту, с разъяснением одной части истины соединялось обыкновенно затемнение другой ее части. То, что мы называем прогрессом, заключается, по большей части, не в росте истины, как бы это должно было быть, а только в замене какой-либо частной, неполной истины другой, и все улучшение состоит в том, что новый осколок истины более нужен, более соответствует потребностям времени, чем тот, который он заменил. Таков односторонний характер господствующих мнений, даже когда эти мнения имеют истинное основание, а поэтому высоко должны мы ценить еретические мнения, хотя бы заключающиеся в них части истины, непризнанные господствующим мнением, и затемнялись разными заблуждениями и искажениями. Тех людей, которые указывают нам, чего мы не видим, ни одни здравомыслящий человек не только не станет строго осуждать за то, что они не видят того, что мы видим, а напротив — едва ли он даже не признает желательным, чтобы при односторонности общепринятых мнений непризнанные еретические мнения имели также своих исключительных, односторонних приверженцев, так как такие приверженцы отличаются обыкновенно наибольшей энергией и наиболее способны заставить общество обратить внимание на непризнанные им части истины.
Так в XVIII столетии почти все образованные люди, а по их примеру и люди необразованные, были проникнуты безграничным удивлением к так называемой цивилизации, к чудесам новой науки, литературы, философии, — различие между людьми Нового времени и людьми времен первобытных представлялось им в крайне преувеличенном виде, и это различие они объясняли исключительно в свою пользу, чрезмерно высоко превознося себя над древним человеком. При безграничном господстве такого исключительного, одностороннего мнения, парадоксы Руссооказались весьма благодетельны: они, как бомбы, пробили крепко укоренившееся мнение, заставили его преобразоваться и принять в себя новые ингредиенты. Конечно, говоря вообще, господствовавшие в то время идеи были не дальше от истины, чем идеи Руссо, а напротив: они были даже ближе к истине, — в них было более положительно истинного и менее положительно ложного; но тем не менее в доктрине Руссо была значительная доля тех именно истин, которых недоставало господствовавшим в то время идеям. Увлечение, вызванное этой доктриной, прошло, но заключавшиеся в ней истины не пропали: высокое достоинство простоты жизни, расслабляющее, деморализирующее действие так называемого цивилизованного общества, эти идеи со временем Руссо не были совершенно чужды ни одному образованному уму, и придет время, когда они произведут свое действие, хотя нельзя не заметить, что теперь может быть более, чем когда-либо, необходимо повторить их, доказывать, утверждать не только словами, но и самим делом, так как это такой предмет, по которому слова потеряли почти всякую силу.
Так в политике теперь стало уже почти общим местом, что партия порядка или сохранения status quo и партия прогресса или преобразования суть два элемента, равно необходимые для здорового состояния политической жизни, пока та или другая из этих партий не достигнет наконец такой умственной широты, что будет вместе и партией порядка и партией прогресса, будет способна распознавать и различать, что надо сохранить и что надо уничтожить. Польза, приносимая каждой из этих партий обуславливается недостатками другой партии, и только противодействие их друг другу главным образом и сдерживает их в должных пределах. Если обе, противостоящие одна другой, стороны, демократия и аристократия, собственность и равенство, ассоциация и соперничество, роскошь и воздержание, общественность и индивидуальность, свобода и дисциплина, одним словом, противоположные друг другу стремления по всем практическим вопросам жизни не будут выражаться с одинаковой свободой, не будут доказываемы и защищаемы с одинаковым талантом и энергией, то и не будет, конечно, никакого шанса, чтобы каждая сторона получила должное, и весы необходимо склонятся в пользу одной из них. Вообще по всем великим практическим вопросам жизни истина заключается преимущественно в примирении и соглашении противоположностей: это до такой степени справедливо, что весьма редко встречаются такие умы, которые были бы достаточно сильны и достаточно беспристрастны, чтобы в самих себе произвести это соглашение противоположностей, и оно достигается, обыкновенно, не иначе, как путем тяжелой борьбы между противниками, стоящими под враждебными друг другу знаменами. Если которое либо из противоположных друг другу мнений, по какому бы то ни было из вышеперечисленных нами вопросов, имеет более права, чем другое, не только на то, чтоб быть терпимым, но и на то, чтоб быть поощряемым и поддерживаемым, то, конечно, то из них, которое в данное время и в данном месте есть меньшинство: это право — за меньшинством, потому что меньшинство представляет собою те интересы, которые в данном случае находятся в пренебрежении, оно представляет собою ту сторону человеческого благосостояния, которая находится в опасности, что ей не воздадут должного. У нас в Англии существует терпимость относительно различия в мнениях по всем почти исчисленным мною вопросам, и эта терпимость может представить нам многочисленные и несомненные примеры, доказывающие универсальность того факта, что при теперешнем умственном состоянии человечества только через столкновение между собой различных мнений и может быть достигаемо полное знание истины. Когда в обществе оказываются люди, несогласные с общепринятым мнением, то если бы даже общепринятое мнение и было полная истина, и в таком случае эти люди, по всей вероятности, всегда имеют сказать что-нибудь, что обществу полезно слышать, и истина всегда что-нибудь да теряет от их молчания.
Могут возразить: «Но некоторые из общепринятых принципов, в особенности же касающиеся самых важных и самых жизненных предметов, заключают в себе более, чем полуистину. Так, например, христианская нравственность есть полная истина по предмету нравственности, и если кто признает другую нравственность, с ней несогласную, тот, без сомнения, находится в полном заблуждении». Вопрос о нравственности есть, конечно, самый важный практический вопрос, и поэтому он более пригоден, чем какой-либо другой, для проверки правильности изложенного нами мнения. Прежде всего нам представляется необходимым определить, что разумеется под этим выражением: христианская нравственность. Если под этим выражением разумеют нравственность Нового Завета, то нельзя не удивляться, как могут люди, черпающие свое знание о ней из самого источника, предполагать, чтобы возвещение заключающихся в Евангелии нравственных истин имело намерение установить полную доктрину нравственности. Евангелие постоянно указывает на существующую нравственность и ограничивается только правилами по тем частностям, которые находит нужным исправить или заменить; кроме того оно излагает свои правила иногда в общих выражениях, всегда красноречивых и поэтических, но часто не имеющих строгой определенности закона. Вот почему для составления строгой этической доктрины этим правилам и была придана система нравственности, выработанная Ветхим Заветом, система законченная, но, во всяком случае, имевшая в виду народ, стоявший на низкой ступени умственного развития. Таким образом, Святой Павел, которого нельзя признать сторонником чисто иудейского толкования и дополнения правил Учителя, в своих нравственных наставлениях христианам всегда предполагает признание существующей нравственности греческой и римской, иногда восставая против нее, иногда вступая с ней в компромисс. То, что называется христианской нравственностью и что правильнее было бы назвать нравственностью богословской, вовсе не есть дело Христа или Апостолов, а происхождения гораздо позднейшего. Эта система нравственности созидалась постепенно католической церковью первых столетий, и хотя протестанты и вообще люди Нового времени и не приняли ее безусловно, но тем не менее они изменили ее далеко не так много, как этого можно было бы ожидать. Они по большей части удовольствовались тем, что очистили ее от тех добавлений, которые были сделаны к ней в Средние века, при чем каждая секта заменяла эти отбрасываемые добавления новыми, более соответствующими ее собственному характеру и ее собственным наклонностям. Что человечество весьма много обязано этой нравственности и ее первым учителям, — я признаю это не менее чем кто-либо другой; но при этом я нисколько не колеблюсь сказать, что эта нравственность по многим весьма важным пунктам неполна и однобока, и положение человечества вовсе не ухудшилось, а даже улучшилось от того, что в образовании европейской жизни и европейского характера приняли участие такие идеи и чувства, санкции которых мы в ней не усматриваем. По самому своему положению в языческом мире христианская нравственность необходимо должна была иметь, между прочим, характер реакции, протеста против язычества; от этого идеал ее представляется скорее отрицательным, чем положительным: правилами ее предписывается скорее воздержание от зла, нежели энергическое стремление к добру, — «ты не должен» является преобладающим над «ты должен». Впоследствии богословская католическая этика, по отвращению к чувственности, поставила выше всего аскетизм, который потом, идя от компромисса к компромиссу с требованиями жизни, заменила легальностью; затем, признав блаженства рая и муки ада единственными побуждениями, достойными и соответствующими добродетельной жизни, она невольно придала человеческой нравственности эгоистический характер. И в то время, когда в нравственности многих языческих народов обязанности к обществу и государству занимают даже большее место, чем какое следует, в католической этике эти обязанности едва упоминаются, — она предписывает только повиновение предержащей власти, полагая вообще в повиновении все достоинство человека и подчиняя этому чувству всю нравственность даже частной жизни и все, что имеет своим источником общечеловеческую, не исключительно религиозную, сторону нашего воспитания. Идея об обязанностях к обществу даже и той незначительной долей своего признания, какая уделяется в этиках новейших времен, обязана собственно Греции и Риму, а не католическому христианству. Мало этого: даже и в нравственности частной жизни все возвышенное, благородное, чувство человеческого достоинства, даже, наконец, и самое чувство чести, все это имеет своим источником чисто человеческую сторону нашего воспитания, а не религиозную, — ничего подобного никогда не было и не могло быть плодом такой нравственной доктрины, которая в повиновении полагает все достоинства человека.
Я не менее, чем кто-либо, далек от мысли утверждать, чтобы эти недостатки были неизбежно присущи всякой христианской этике, или чтобы эта этика не могла быть примирена со всем тем, чего ей недостает для того, чтобы быть полной доктриной нравственности. А тем более и далеко от того, чтобы сказать что-нибудь подобное о доктринах и правилах самого Христа. Я признаю, что изречения Христа суть вполне все то, чем они сами имели намерение быть, — что в них нет ничего непримиримого со всеми требованиями самой полной нравственной доктрины, и все, что может нам дать лучшего какая бы то ни было этическая теория, мы можем найти и в этих изречениях, подвергая их не большему насилию, чем какое обыкновенно дозволяли себе над ними все те, которые когда-либо пытались вывести из них практическую систему нравственности. И в этом не будет никакого противоречия самому себе, если я скажу, что эти изречения выражают и имели намерение выразить только часть истины, — что они ничего не говорят нам и не имели намерения ничего сказать о некоторых существенных элементах высшей нравственности. Эти невыраженные в них элементы совершенно отсутствуют в той этической системе, которую христианская церковь создала на их основании: вот почему я и признаю великим заблуждением то упорство, с каким до сих пор настаивают на том, что будто христианская доктрина заключает в себе полную систему нравственности, которую будто бы санкционировал Христос, но поведал нам только отчасти. Кроме того, я признаю, что исключительное господство этой католической теории нравственности, которую называют христианской, делается в настоящее время важным практическим злом, потому что подрывает цену того нравственного воспитания и образования, о котором в настоящее время хлопочут многие благонамеренные люди. Я вижу большую опасность в стремлении образовать ум и чувство по исключительно религиозному типу, устраняя при том те светские типы (если можно так выразиться за неимением другого лучшего слова), которые некогда существовали наряду с христианской нравственностью и дополняли ее, многое от нее заимствовали, но и многое сообщили ей. Я вижу опасность в том, что эти стремления могут привести и уже приводят к образованию такого типа, который если и способен подчиняться тому, что называется высочайшей волей, за то неспособен подняться до сознания высочайшей благости, или до сочувствия к ней, а это предполагает понижение уровня чувства человеческого достоинства. Я признаю, что для нравственного возрождения человечества необходимо, чтобы наряду с христианской нравственностью существовали бы и другие нравственные системы, которые имели бы своим источником не исключительно только одну христианскую доктрину, ибо при несовершенном состоянии человеческого ума интересы самой истины требуют существования различных мнений. Знание тех нравственных истин, которых нет в христианстве, нисколько не предполагает отрицания тех истин, которые в нем заключаются, а если это и бывает, то это есть не более как предрассудок, или заблуждение, и во всяком случае есть зло, но зло такого рода, что мы не можем надеяться быть от него когда-либо совершенно обеспеченными и потому должны смотреть на него как на цену, которой покупаем неоценимое благо. Надо желать, чтобы исключительное притязание одной части истины быть целой истиной встречало против себя протест, и если при этом протестующие в свою очередь впадают в односторонность и предъявляют притязание поставить свою часть истины на место целой истины, то, конечно, это заслуживает сожаления, конечно должно также вызвать против себя протест, но во всяком случае должно быть терпимо. Если христиане хотят научить неверующих быть справедливыми к христианству, то должны быть сами справедливы к неверующим. Истина нисколько от этого не выиграет, если мы будем закрывать себе глаза перед тем фактом, который известен всем, кто сколько-нибудь знаком с историей литературы, что большая часть самых высоких, самых чистых нравственных учений сплошь и рядом была делом таких людей, которые не знали, что такое христианская вера, или даже считались ее противниками.
Я вовсе не думаю утверждать, чтобы самая неограниченная свобода выражать всевозможные мнения положила конец религиозному или философскому сектанству. Всегда найдутся люди узкого ума, которые, усвоив себе ту или другую часть истины, будут утверждать, что это вся истина, будут не только навязывать ее другим, но и действовать, как будто бы в мире кроме нее и нет никакой другой истины, нет ничего, чтобы могло даже хоть ограничивать или изменять ее. Я не отрицаю, что общая всем мнениям наклонность к сектанству не излечивается свободой прений, а напротив, даже возрастает вследствие этой свободы, раздражается ею. Вообще когда людям представляется истина, которой они до той поры не знали, хотя и должны были бы знать, то они обыкновенно восстают против нее тем с большим ожесточением, что она обыкновенно предъявляется им теми, на кого они смотрят, как на своих оппонентов. Но столкновение между собой различных мнений производит благодетельное действие не на страстных сектантов, а на умы беспристрастные и склонные к самообладанию. Зло, которого следует страшиться, заключается не в ожесточенной борьбе между частями истины, а в том, чтобы какая-нибудь часть истины не была уничтожена. Когда люди вынуждены выслушивать обе стороны, то есть надежда, что они познают истину; но когда они слышат только одну сторону, тогда заблуждения укореняются, превращаясь в предрассудки, тогда сама истина утрачивает все свойства истины и вследствие преувеличения становится ложью. Способность обсуждать обе стороны предмета, когда слышат только защитников одной стороны, — такая способность встречается едва ли не реже, чем какой-либо другой умственный атрибут, и поэтому, где не могут высказываться все стороны, там совершенно безнадежно, чтобы могла быть познана истина, и наоборот: тем надежнее достижение истины, когда каждая ее сторона, каждое мнение, заключающее в себе ту или другую ее часть, находит себе защитников, и притом таких, которые умеют возбудить к себе внимание людей.
Итак, мы представили четыре различные одно от другого основания, по которым признаем, что для умственного благосостояния людей (от которого находится в полной зависимости и все материальное благосостояние) необходима свобода мнений и свобода выражать мнения. Повторим вкратце эти основания:
1. Мнение, которое заставляют молчать, может быть истина. Отрицать возможность этого, значит признавать себя непогрешимым.
2. Хотя мнение, лишенное возможности высказываться, и есть заблуждение, но оно может заключать в себе часть истины, как это по большей части и бывает, — и так как общепринятое или господствующее мнение редко или почти никогда не заключает в себе всей истины, то только при столкновении между собой различных мнений остальная непризнанная часть истины и может достигнуть признания.
3. Если даже общепринятое мнение не только истинно, а заключает в себе всю истину, но если при этом оно не дозволяет себя оспаривать и на самом деле не подвергается серьезному, искреннему оспариванию, то оно в сознании или чувстве большей части людей утрачивает свою рациональность и превращается в предрассудок.
4. Мало этого: делая себя недоступной критике, доктрина подвергает себя опасности утратить самый свой смысл, ослабить свое влияние на характер и поступки людей, и даже совершенно лишиться этого влияния, — догма превращается в пустую, совершенно бесплодную формальность, которая только занимает место без всякой пользы и препятствует зарождению действительных, искренних убеждений, исходящих от разума или из личного опыта.
Прежде чем перейти к другому вопросу, считаю нелишним в заключение этого рассуждения остановиться немного на том мнении, которое признает, что свободное выражение всех мнений должно быть дозволено, но не иначе, как с тем условием, чтобы выражение их было умеренно и не переходило границ честного спора. Многое есть, что сказать касательно невозможности определить эти границы. Если под ними разуметь требование, чтобы не делалось оскорблений тем, на чьи мнения нападают, то опыт достаточно, я полагаю, свидетельствует, что та сторона, на которую нападают, всегда считает себя обиженной, когда нападение ведется сильно, и всякий раз, когда диспутант сильно напирает на противника и делает для него затруднительным возражение, то противник находит, что его оппонент выражается неумеренно и переходит должные границы. Это замечание имеет, конечно, важное значение с практической точки зрения; но, кроме этого практического неудобства, против разбираемого нами мнения есть еще другое более фундаментальное возражение. Без сомнения, способ доказывать мнение, хотя бы оно и было истинное, может быть предосудителен и может быть справедливо подвергнут строгому осуждению; но обнаружить виновность в этом случае по большей части совершенно невозможно, если только сам виновный не сознается в своей вине. Софистически аргументировать, опускать факты или аргументы, неправильно устанавливать самые элементы спора, или искажать противное мнение — вот самый предосудительный образ действия в полемике; но все это весьма часто, и даже в самых больших размерах, совершается с полной добросовестностью и притом такими людьми, которые не считаются и во многих отношениях не заслуживают, чтобы их считали невеждами или некомпетентными по обсуждаемому вопросу. Вследствие этого редко бывает возможно с полным убеждением сказать, что действительно в данном случае диспутант нравственно виновен, а тем более трудно в этом случае обнаружить виновность, и поэтому всякое вмешательство закона в эти полемические пороки совершенно неуместно. Что же касается до так называемой неумеренности выражений, как например, брань, сарказм, личности, и т.п., то стремление прекратить употребление подобных полемических приемов заслуживало бы, конечно, более сочувствия, если бы относилось одинаково к обеим сторонам; на самом же деле имеется обыкновенно в виду оградить от них только господствующее мнение, и употребление таких приемов против других мнений, негосподствующих, не только не осуждается, а напротив, восхваляется как усердие к истине, как совершенно справедливое негодование. А между тем весь вред, какой только может истекать из употребления этих полемических приемов, имеет место главным образом тогда, когда эти приемы употребляются против мнений, сравнительно говоря, беззащитных, и наоборот: вся та неблаговидная польза, какую можно извлечь, прибегая к таким приемам для защиты своего мнения, составляет почти исключительное достояние господствующего мнения.
Самая крайняя неумеренность полемических возражений есть то, когда диспутант обзывает своих противников людьми злонамеренными, безнравственными. Такому обозванию подвергаются преимущественно те люди, которые держатся мнений непопулярных, так как они обыкновенно бывают малочисленны, невлиятельны, и такая к ним несправедливость никого лично не затрагивает, кроме их самих; те же, которые нападают на господствующее мнение, по самому своему положению совершенно лишены этого орудия: они не могут употребить его, не подвергая себя лично опасности, а если этой опасности и нет, то употребление ими такого орудия не может иметь никакого другого результата, кроме вреда их же собственному делу. Вообще мнения, которые противоречат общепринятым мнениям, не иначе могут достигнуть того, чтоб их выслушивали, как заботливо стараясь выражаться как можно умереннее и тщательно избегая всякого рода излишних резкостей: малейшее с их стороны отступление от этого делает только вред им же самим; между тем самая даже крайняя неумеренность выражений со стороны господствующего мнения действительно отвращает людей от признания противного мнения и делает нередко то, что люди даже не хотят и выслушивать его противников. Следовательно, в интересах истины и справедливости гораздо было бы полезнее ограничивать неумеренность выражений со стороны господствующего мнения, чем со стороны противных мнений; так, например, если уж необходимо преследовать, то гораздо было бы полезнее преследовать оскорбительные нападения на неверующих, чем оскорбительные нападения на религию. Очевидно, что закон и установленные власти не должны вмешиваться в способ выражения мнений, не должны ограничивать в этом отношении ни той, ни другой стороны. Очевидно также, что произнося свое суждение о каком-либо частном случае, мы должны каждый раз руководиться частными обстоятельствами этого случая, должны равно осуждать каждого, какое бы мнение он ни защищал, кто дозволяет себе в полемике недобросовестность, лицемерие, нетерпимость, а не ставить это в вину только тем, которые защищают мнения, несогласные с нашими. Очевидно, что мы должны одинаково воздавать похвалу каждому, какого бы мнения он ни был, кто беспристрастно и честно относится к своим противникам и их мнениям, не дозволяя себе никаких преувеличений к их вреду, не утаивал ничего, что может служить к их пользе или предполагается таковым. Вот в чем состоит истинная нравственность публичного спора, и хотя она часто нарушается, но мы можем по крайней мере утешать себя тою мыслью, что в наше время много найдется уже таких диспутантов, которые в значительной степени достигают этой нравственности, и еще более таких, которые к ней добросовестно стремятся.
Глава III
Об индивидуальности как об одном из элементов благосостояния
В предшествующей главе мы представили основания, по которым абсолютно необходима для людей полная свобода мнений и полная свобода их выражения, — мы видели, к каким пагубным последствиям как для умственной, а так, вследствие этого, и для нравственной природы человека, влечет за собой непризнание этой свободы или несостоятельность людей добыть себе эту свободу вопреки ее непризнания. Теперь мы рассмотрим, не требуют ли те же самые основания, чтобы люди имели полную свободу действовать сообразно своим мнениям, — осуществлять свои мнения в действительной жизни, не подвергаясь при этом никакому физическому или нравственному стеснению от своих сограждан, если только действуют на свой собственный страх. Это последнее условие необходимо: никто не станет утверждать, чтобы действия должны были быть также свободны, как и мнения, а напротив, даже сами мнения утрачивают свою неприкосновенность, если выражаются при таких обстоятельствах, что выражение их становится прямым подстрекательством к какому-нибудь вредному действию. Так например, мнение, что хлебные торговцы — виновники голода, который терпят бедные, или что частная собственность есть воровство, — такое мнение, конечно, должно быть неприкосновенно, пока не выходит из литературной сферы, но оно может быть справедливо подвергнуто преследованию, если выражается перед раздраженной толпой, собравшейся перед домом хлебного торговца, или же распространяется в этой толпе в форме воззвания. Вообще действия всякого рода, которые, без достаточного к тому основания, причиняют вред кому-либо, могут, а в более важных случаях, и необходимо должны быть обуздываемы осуждением, а когда нужно, то и деятельным вмешательством со стороны людей. Индивидуальная свобода должна быть ограничена следующим образом: индивидуум не должен быть вреден для людей, но если он воздерживается от всего, что вредно другим, и действует сообразно своим наклонностям и своим мнениям только в тех случаях, когда его действия касаются непосредственно только его самого, то при таких условиях по тем же причинам, по которым абсолютно необходима для людей полная свобода мнений, абсолютно необходима для них и полная свобода действий, т.е. полная свобода осуществлять свои мнения в действительной жизни на свой собственный страх. Что человечество не непогрешимо, что его истина есть по большей части только полуистина, что единство мнения, если только оно не есть результат полного и свободного сравнения между собой противных мнений, нежелательно, и что различие в мнениях не есть зло, а добро, пока люди не будут более способны, чем теперь, познавать все стороны истины, — все это имеет такое же значение и по отношению к действиям людей, как и по отношению к их мнениям. Как полезно при теперешнем несовершенном состоянии человечества, чтобы существовали различные мнения, так полезно чтобы существовали и различные образы жизни, чтобы предоставлен был полный простор всем разнообразным характерам, под условием только не вредить другим, и чтобы достоинство всех разнообразных образов жизни было испытываемо на практике, когда оказываются люди, желающие их испытывать. Там, где люди живут и действуют не сообразно со своими характерами, а сообразно с преданиями или обычаями, там отсутствует один из главных ингредиентов благосостояния человечества и самый главный ингредиент индивидуального и социального прогресса.
Главное препятствие к признанию высказанного нами принципа заключается не в той или другой оценке средств, которыми должна быть достигаема его цель, т.е. свободное развитие индивидуальности, а в индифферентности людей к самой его цели. Если бы люди сознавали, что свободное развитие индивидуальности есть одно из первенствующих существенных благ, что оно есть не только элемент, сопутствующий тому, что обозначается выражениями: цивилизация, образование, воспитание, просвещение, но и само по себе есть необходимая принадлежность и условие всего этого, тогда не было бы опасности, что индивидуальная свобода не будет оценена надлежащим образом и что проведение границ между этой свободой и общественным контролем встретит особенно важные затруднения. Но, к несчастью, индивидуальная способность не имеет в глазах людей внутренней цены сама по себе, — не считается ими даже заслуживающей внимания ради самой себя. Большинство, довольное существующими порядками (так как оно само их и создало), не понимает, почему бы эти порядки могли не удовлетворять всех и каждого. Мало этого, даже большая часть нравственных и социальных реформаторов не только не дают места в своих идеалах индивидуальной самобытности, но смотрят на нее недоверчиво, как на помеху, и даже как на препятствие, которое, может быть, придется им преодолевать для осуществления того, что они считают высшим благом для человечества. Мало даже найдется таких людей вне Германии, которые понимали бы по крайней мере хотя смысл той доктрины, о которой Вильгельм Гумбольдт, человек столь замечательный и как ученый, и как политик, написал особое сочинение, — а именно той доктрины, что «конечная цель» человека, т.е. та цель, которая ему предписывается «вечными, неизменными велениями разума, а не есть только порождение смутных и преходящих желаний, эта цель состоит в наивозможно гармоническом развитии всех его способностей в одно полное и состоятельное целое», — что, следовательно, предмет, «к которому каждый человек должен непрерывно направлять все свои усилия, и который особенно должны постоянно иметь в виду люди, желающие влиять на своих сограждан, есть могущество и развитие индивидуальности«, — что для этого два необходимые условия, «свобода и разнообразие личных положений», — и что только при совместном существовании этих условий может развиться индивидуальная сила и многостороннее разнообразие», которые, комбинируясь вместе, и образуют «оригинальность»[5].
Впрочем, как бы людям ни казалась нова и поразительна эта доктрина, высказанная Гумбольдтом, которая признает за индивидуальностью такую высокую цену, во всяком случае вопрос, возбуждаемый этой доктриной, не более как вопрос о степени, о большей или меньшей ценности, какую имеет индивидуальность. Никто не станет утверждать, чтобы самый совершенный образ действия людей состоял в точном копировании ими друг друга. Никто также не станет утверждать, чтобы личные суждения человека или его личный характер не должны были иметь никакого влияния на его образ жизни и на ведение им своих дел. С другой стороны нелепо было бы предъявлять требование, чтобы люди жили так, как будто бы живший до них мир ничего не узнал, как будто бы опыт всего прошедшего не дал никаких указаний, какой образ жизни или какой образ действия заслуживает предпочтения перед другими. Никто не станет отрицать, что люди должны быть обучаемы и воспитываемы в их молодости так, чтобы знали и могли воспользоваться всеми результатами человеческого опыта. Но такова привилегия человека и свойство его человечности, что с достижением зрелости своих способностей он понимает и употребляет по-своему то, что ему сообщает опыт других людей. Он сам определяет образ и степень применения результатов этого опыта к своему характеру. Предания и обычаи, соблюдаемые людьми, суть до некоторой степени несомненные выражения опыта и, конечно, должны быть принимаемы во внимание каждым индивидуумом; но, во-первых, этот опыт мог быть узок, односторонен, или указания этого опыта могли быть неправильно поняты; во-вторых, если даже эти указания и были поняты правильно, но они могут просто не годиться для того или другого индивидуума. Обычаи устанавливаются для обычных обстоятельств и для обычных людей, а обстоятельства или характер индивидуума могут быть необычные. В-третьих, хотя бы обычаи и были хороши, как обычаи, и были бы пригодны для индивидуума, но сообразоваться с обычаем единственно потому только, что это — обычай, значит отказаться от воспитания в себе или от развития некоторых из тех качеств, которые составляют отличительный атрибут человека. Способность человека понимать, судить, различать, что хорошо и что дурно, умственная деятельность и даже нравственная оценка предметов — все эти способности упражняются только тогда, когда человек делает выбор. Но тот, кто поступает известным образом потому только, что таков обычай, тот не делает выбора, не упражняет практически своей способности различать, что хорошо и что дурно, не питает в себе стремлений к лучшему. Умственная и нравственная сила, также как и мускульная, развивается не иначе, как через упражнение. Кто поступает известным образом единственно потому, что так поступают другие, тот так же мало упражняет свои способности, как если бы он верил во что-нибудь единственно потому, что другие в это верят. Усвоить себе такие мнения, которых основания не имеют полной убедительности для нашего ума, это ведет не к усилению нашей умственной способности, а напротив, к ослаблению ее; руководствоваться в своих действиях такими соображениями, которые не согласны с нашими чувствами и нашим характером (и притом не из привязанности к кому-либо, или не из уважения к правам другого), значит подрывать силу и энергию своих чувств и своего характера, а не усиливать их деятельность и энергию.
Тот индивидуум, который предоставляет обществу или близкой к нему части общества избирать для себя тот или другой образ жизни, — тот индивидуум не имеет надобности ни в каких других способностях, кроме той способности передразнивания, какую имеет обезьяна. Только тот человек имеет надобность во всех своих способностях и действительно пользуется ими, который сам по своему пониманию устраивает свою жизнь. Ему нужна способность наблюдать для того, чтобы видеть, — способность размышлять и судить для того, чтоб предусматривать, — способность к деятельности для того, чтобы собирать материалы для суждения, — способность различать, что хорошо и что дурно, для того, чтобы произнести суждение, и когда он произнесет свое суждение, когда решит, что ему делать, ему нужны твердость характера и способность к наблюдению за самим собой для того, чтобы выполнить принятое им решение. Все эти способности нужны человеку и упражняют его в большей или меньшей степени, смотря по тому, как велика та часть его поступков, в которых он руководится своими собственными чувствами. Возможно, что человек может попасть на хорошую дорогу и избежать всякого рода бедствий, и не употребляя в дело всех этих способностей; но в чем же тогда будет состоять его отличие, как человека? На самом деле не в том только важность, что делают люди, но и в том, каковы те люди, которые это делают. Между теми предметами, которые человек должен стремиться улучшить и усовершенствовать, первое место по своей важности, без сомнения, занимает сам человек. Предположим, что можно строить дома, растить хлеб, сражаться, решать тяжбы, и даже строить церкви и произносить молитвы, — что все это может делаться машинально автоматами в человеческом образе, но и в таком случае разве это не было бы большой потерей променять на этих автоматов хотя бы даже тех мужчин и женщин, которые в настоящее время населяют наименее цивилизованную часть мира, хотя они, без сомнения, не более как весьма слабые образчики того, чем могут быть. Человеческая природа не есть машина, устроенная по известному образцу и назначенная исполнять известное дело, — она есть дерево, которое по самой природе своей необходимо должно расти и развиваться во все стороны, сообразно стремлению внутренних сил, которые и составляют его жизнь. Не станут, конечно, спорить, что желательно, чтобы люди упражняли свою способность понимания, и что разумное следование обычаю, или даже иногда и разумное отступление от обычая лучше, чем слепое, чисто механическое его исполнение. До некоторой степени это общепризнанно, что наше понимание должно быть наше собственное понимание; но мы не встречаем такой же охоты признать, что наши желания и наши побуждения должны быть также наши собственные желания и наши собственные побуждения, или что имение своих собственных побуждений, и притом побуждений сильных, не есть опасность и не есть зло. Желания и побуждения суть в такой же степени принадлежность совершенного человеческого существа, как и верование и воздержание, — сильные побуждения только тогда опасны, когда они не уравновешены в человеке надлежащим образом, когда некоторые стремления или наклонности получили сильное развитие, между тем как другие, которые должны существовать наряду с ними, остались слабы и неразвиты. Если люди поступают дурно, то это не потому, что у них сильны желания, а потому, что у них слаба совесть. Нет никакой естественной связи между сильным побуждением и слабой совестью; напротив сильное побуждение имеет естественную связь с сильной совестью. Сказать, что чувства и желания такого-то человека сильнее и разнообразнее, чем чувства и желания другого, это значит ни более, ни менее, как сказать, что такой-то человек имеет в себе более сырого материала человеческой природы и поэтому способен, может быть, к большему злу, но уже несомненно и к большему добру. Сильные побуждения суть то же самое, что энергия, тут разница только в слове. Энергия может быть обращена и на дурное; но, конечно, энергический человек всегда может более сделать добра, чем человек ленивый и бесстрастный. Чем сильнее в человеке естественные чувства, тем более сильного развития могут достигнуть в нем те чувства, которые приобретаются жизнью. Та самая чувствительность, которая делает сильными и энергичными наши личные побуждения, есть также и источник, из которого рождается самая страстная любовь к добродетели и самое строгое наблюдение над самим собою. Это не только долг общества, но и прямой его интерес — содействовать образованию сильной чувствительности в индивидуумах, а не отбрасывать этот материал, из которого выходят герои, на том основании, что не знает, как делать из него героев. Про того человека, у которого желания и побуждения суть его собственные, суть выражение его собственной природы, как она развилась и модифицировалась под влиянием его собственного развития, — про такого человека говорят, что он имеет характер. Но тот человек, у которого желания и побуждения не суть его собственные, не имеет характера, у него не более характера, чем сколько и у паровой машины. Если же побуждения у человека не только суть его собственные, но и весьма сильны и управляются сильной волей, то такой человек имеет характер энергический. Кто находит, что не следует поощрять развитие индивидуальных желаний и побуждений, тот должен признать, что общество не нуждается в сильных натурах, — что оно не будет от того лучше, если в нем будет много людей с сильным характером, и что нежелательно, чтобы общий уровень энергии поднимался выше.
В первобытных обществах могло быть, и действительно так было, что индивидуальность была несоразмерно могущественна по сравнению с теми средствами, какие тогда общество имело, чтобы ее дисциплинировать и контролировать. В жизни общества действительно было такое время, когда элемент самобытности и индивидуальности был чрезмерно силен, и социальный принцип должен был выдержать с ним трудную борьбу. Тогда затруднение состояло в том, чтоб людей, сильных физически или умственно, привести к подчинению себя таким правилам, которые стремились контролировать их побуждения. Для того, чтобы преодолеть это затруднение, закон и дисциплина, подобно папам в их борьбе против императоров, провозгласили себя имеющими власть над всем человеком, стремились подчинить своему контролю всю жизнь человека для того, чтобы иметь возможность контролировать его характер, так как общество не находило в то время другого достаточного средства для обуздания характеров. Но теперь обществу не угрожает уже никакой опасности от индивидуальности, а напротив, действительная опасность, угрожающая теперь человечеству, состоит не в чрезмерности, а в недостатке личных побуждений и желаний. Теперь уже совсем не то, что было в те времена, когда страсти людей, сильных по своему положению или по своим личным качествам, были в постоянной войне с законами и правилами и должны были быть обуздываемы энергичными мерами, для того чтоб тем людям, которых они могли достигать, доставить хоть малейшую долю безопасности. В наше время, начиная от самых высших классов и до самых низших, каждый индивидуум живет так, как будто над ним неусыпно блюдет око враждебной к нему и грозной силы. Не только в том, что касается других людей, но и в том, что касается только их самих, как индивидуум, так и семейство, не спрашивают себя — чему должен я отдать предпочтение? или, что более соответствует моему характеру или моим наклонностям? — или, что может более способствовать свободному проявлению, или росту и преуспеянию того, что во мне есть лучшего и наиболее высокого? Они ставят себе вопросы совершенно другого рода, — они спрашивают себя: что соответствует моему положению в обществе? что в этом случае обыкновенно делают люди, принадлежащие к одному со мной классу общества и с такими же, как я, денежными средствами? или (что еще хуже) что делают в данном случае люди, принадлежащие к высшему, чем я, классу общества, и с большими, чем я, денежными средствами? Я вовсе не думаю утверждать, чтобы люди нашего времени оказывали предпочтение требованиям обычая перед требованиями своих собственных наклонностей. Дело в том, что в наше время люди не имеют никаких других наклонностей, кроме тех, которые сообразны с требованиями обычая. Таким образом у этих людей самый ум подавлен. Они даже и веселиться иначе не могут, как соображаясь с обычаем, и не находят удовольствия ни в чем, что с ним не согласно. Они любят массой. Их выбор ограничивается тем, что освящено обычаем: всякой оригинальности во вкусе, всякой эксцентричности в поступках они избегают, как преступления. Отказываясь следовать указаниям своей собственной природы, они довели себя до того, что утратили в себе всякую природу: их человеческие способности зачахли и заморены: они не способны ни к какому естественному удовольствию: они не имеют ни одного мнения, ни одного чувства, которое было бы их собственное, родилось бы в них самих. Спрашивается: желательно ли для человека такое состояние?
Желательно — говорит кальвинистская теория. По этой теории иметь свою волю есть величайшее преступление. Все добро, к какому только способно человечество, заключается в повиновении. Вам не оставляется никакого выбора, — все должны поступать именно так, а не иначе, — «все, что не есть обязанность, есть грех». Человеческая природа радикально греховна, и человеку нет другого средства спастись, как совершенно убить в себе человеческую природу. Кто признает эту теорию, для того не есть зло утратить какую-либо человеческую способность, качество или свойство: ему не надо никаких способностей, кроме одной — исполнять волю Божью, и если он какую-либо из своих способностей употребляет и для других целей, а не только для того, чтоб достигать лучшего исполнения воли Божьей, то для него было бы лучше, когда бы он вовсе не имел этой способности. Такова теория кальвинизма. Этой теории, только несколько смягчая ее, держатся весьма многие, которые, однако, вовсе не признают себя кальвинистами. Смягчение состоит в том, что предполагаемой воли Божьей дается толкование менее аскетическое, — признается не противным воли Божьей, чтобы человечество удовлетворяло некоторым требованиям своей природы, но не иначе как путем повиновения, т.е. известным образом, который предписан властью и, следовательно, необходимо должен быть одинаков для всех. Под этой-то коварной формой укрывается сильная наклонность нашего времени к узкой теории кальвинизма, к ее жалкому, общипанному типу человеческого характера. Без сомнения, много таких людей, которые совершенно искренно думают, что человек, таким образом умаленный и изуродованный, и есть именно то, чем ему назначено быть от его Творца, — точно так же как много есть людей, которые находят, что деревья, выстриженные разными фигурами, лучше, чем деревья в их естественном состоянии. Но если религия признает, что человек создан существом добрым, то не соответственнее ли этому было бы поверить, что это доброе существо дало человеку все его способности для того, чтобы он пользовался ими, развивал их, а не для того, чтобы он их замаривал и искоренял, — что оно наполняется радостью всякий раз, когда видит, что его создания увеличивают свои способности к пониманию, к действию, к наслаждению, «то они делают шаг к достижению того идеала, который для них начертан в их природе. Человеческая природа дана человеку для других целей, а не для того только, чтобы он от нее отрекался: вот основание, из которого рождается тип человеческого совершенства, совершенно различный от типа кальвинистской теории. «Древнее поклонение человеческой природе есть также один из элементов человеческого достоинства, как и христианское самоотвержение[6]. Есть еще греческий идеал саморазвития, с которым сливаются, но которого не заменяют платонический и христианский идеалы господства над самим собою. Может быть, Джон Нокс и лучше, чем Алкивиад, но во всяком случае Перикл лучше, чем они оба, и если бы Перикл существовал в наше время, то не был бы лишен тех хороших качестве, какие имел Джон Нокс.
Люди достигают высокого достоинства и превосходства не через выкраивание себя по известной мерке, а через развитие своей индивидуальности, вызывая ее к жизни в тех пределах, которые условливаются правами и интересами других людей. Как всякое произведение носит на себе отпечаток характера того, кто его произвел, так и жизнь человеческая с развитием индивидуальности становится полнее, богаче, разнообразнее, дает более обильный материал для высоких мыслей и возвышенных чувств, укрепляет связь между индивидуумом и его расой, возвышая достоинство самой расы. Соответственно развитию своей индивидуальности, человек получает большую цену сам для себя и вследствие этого делается способен иметь большую цену для других, — самая жизнь его становится полнее, а чем более жизни в единицах, тем более жизни и в массе, которая составляет из этих единиц. Нельзя избежать стеснения индивидуальной свободы, насколько это необходимо для того, чтобы предупредить со стороны более энергических натур нарушение прав других людей. Но это стеснение вполне вознаграждается даже и с точки зрения человеческого развития: те средства к развитию, которые утрачиваются индивидуумом вследствие неудовлетворения своих стремлений, нарушающих права других, — эти средства к развитию могли бы быть употреблены в дело не иначе, как в ущерб развитию других индивидуумов; кроме того, и сам индивидуум, подвергающийся этой утрате, вполне вознаграждается за нее высшим развитием социальной стороны своей природы, каковое развитие и возможно только при ограничении эгоистических стремлений. Подчинение себя строгим правилам справедливости ради пользы других развивает в человеке такие чувства и способности, которые имеют своим предметом благо других людей. Но такое ограничение индивидуальной свободы, которое делается не ради блага других людей, а потому только, что так другим людям нравится, — такое ограничение не развивает в человеке ничего хорошего, исключая разве того только, что сопротивление такому ограничению может развить силу характера. Когда же человек покорно подчиняется этому ограничению, то это отупляет и ослабляет всю его природу. Индивидуальное развитие только тогда возможно, когда индивидуум имеет свободу вести такой образ жизни, какой признает для себя лучшим, — и чем большую степень этой свободы предоставлял индивидууму тот или другой век, тем более этот век имел цены в глазах потомства. Даже сам деспотизм не производит обыкновенных своих самых вредных последствий, если только допускает существование индивидуальности. Все, что уничтожает индивидуальность, есть деспотизм, какое бы имя оно ни носило, во имя чего бы оно ни действовало, все равно, во имя ли воли Божьей, или во имя человеческой.
Сказав, что без индивидуальности немыслимо никакое развитие, что только при существовании индивидуальной свободы люди могут совершенствоваться и достигать наивозможно полного развития, я мог бы на этом и закончить свою аргументацию в пользу индивидуальной свободы. И в самом деле, какой другой аргумент более убедительный, более сильный, можем мы представить в пользу того или другого условия человеческой жизни, как не тот, что выполнение этого условия приближает человека к тому более совершенному состоянию, какое для него возможно и наоборот, какое более сильное возражение может быть представлено против того или другого условия жизни, как не то, что это условие препятствует совершенствованию человека? Однако эти соображения окажутся, без сомнения, недостаточными для убеждения тех, которых убедить для нас всего нужнее, и потому нам необходимо привести для подкрепления нашего аргумента еще соображения другого рода. Мы покажем, что существование развитых индивидуумов полезно для неразвитых, — что не желающие индивидуальной свободы, или не желающие сами ею пользоваться, будут вознаграждены, если не будут стеснять свободы других.
Прежде всего я укажу на то, что люди, не пользующиеся индивидуальной свободой, всегда могут кое-чему научиться от тех, которые ею пользуются. Никто не станет отрицать, что оригинальность весьма драгоценна для людей, — что всегда есть надобность не только в таких людях, которые бы открывали новые истины и раскрывали заблуждения, ошибочно принятые за истину, но и в таких, которые бы своим опытом открывали лучшие приемы для той или другой практической деятельности, служили бы примером более лучшего образа жизни, более совершенного вкуса и вообще более совершенного ведения человеческих дел. Этого никто не может отрицать, если только не признает, что мир достиг уже во всех отношениях самого высшего совершенства, какого только может достигнуть. Совершенно справедливо, что не всякий равно способен оказать такую услугу, — что, говоря сравнительно, весьма немного таких людей, которых опыт имел бы такое достоинство, что его принятие было бы прогрессом. Но эти немногие и суть соль земли; без них жизнь человеческая обратилась бы в стоячую лужу. Эти немногие не только открывают нам новые блага, до тех пор для нас не существовавшие, но и дают жизнь тем благам, которые уже существовали. Если бы даже нам и не предстояло более узнавать ничего нового, то и в таком случае разве ум человеческий был бы менее необходим? Делая то, что уже давно делается, разве люди не должны знать, почему они это делают именно так, а не иначе, и разве это все равно, будут ли они это делать как скоты, не понимая, или же как разумные существа, с полным пониманием? Даже самые лучшие верования и самые лучшие действия людей имеют большую наклонность превращаться в простой механизм, и если бы не существовали постоянно такие люди, которые своей самобытностью поддерживают жизнь в этих верованиях и действиях, препятствуют их основаниям превратиться в предание, — если бы не существовали такие люди, то даже самые лучшие верования и действия сделались бы мертвыми, не в состоянии были бы устоять против малейшего напора чего-нибудь действительно живого, — тогда не было бы никакого основания полагать, почему бы и цивилизация не могла умереть также, как умерла Византийская империя. Правда, гениальные люди всегда были и по всей вероятности всегда будут в малочисленном меньшинстве; но чтоб иметь их хотя в этом меньшинстве, необходимо сохранять ту почву, которая их растит. Гении могут свободно дышать только в атмосфере свободы. Гениальные люди, ex vi termini, более индивидуальны, чем другие, и следовательно, менее способны, чем другие, прилаживать себя к тем немногочисленным образцам, которыми общество снабжает своих членов, освобождая их таким образом от заботы образовывать свой собственный характер. Если гениальный человек уступит требованиям общества, приладит себя к его образцу и, таким образом, оставит втуне всю ту часть своего существа, которая не может развиться при этих условиях, то общество немного выиграет от его гения. Когда же гений обнаруживает сильный характер и разрывает налагаемые на него цели, то общество, не успев подвести его под общий уровень, обыкновенно указывает на него, как на «дикого», как на «чудака», как на примере, который должен служить предостережением для других, — оно в таких случаях обыкновенно действует подобно тому, как если бы кто стал роптать на Ниагару, зачем она не течет также свободно промеж своих берегов, как каналы Голландии.
Я потому так долго останавливаюсь на значении гениальных людей и на необходимости давать полный простор их мысли и их действиям, что в действительной жизни почти все люди относятся к этому совершенно индифферентно, хотя в теории, и не станет никто этого оспаривать. Вообще люди смотрят на гений, как на нечто весьма хорошее, когда он делает человека способным написать вдохновенную поэму или превосходную картину. Но гений в истинном смысле этого слова, т.е. в смысле оригинальности мысли и действия, возбуждает в людях чувство совершенно иного рода: никто, конечно, не скажет, чтобы такой гений не заслуживал удивления, но при этом едва ли не каждый думает про себя, что нет никакой надобности в этом гении, что очень хорошо можно обойтись и без него. Такое отношение людей к гению, по несчастью, столь естественно, что и не может быть предметом удивления: оригинальность есть такая вещь, пользу которой не могут понимать неоригинальные умы: они не могут видеть, какую пользу может принести она, а если бы видели, то и не была бы она оригинальностью. Первая услуга, какую должна оказать оригинальность этим умам, состоит в том, чтобы открыть им глаза, и когда они таким образом прозреют, то могут оказаться способны и сами сделаться оригинальными, а покамест пусть они не забывают, что все, что люди не делают, было когда-то сделано кем-нибудь в первый раз, и что все благо, какое только существует, есть плод оригинальности, — пусть они будут довольно скромны, чтобы верить, что оригинальность еще имеет кое-что совершить, и что они тем более в ней нуждаются, чем менее сознают в ней нужду.
Какое бы, по-видимому, поклонение, не только на словах, но хотя бы даже и на самом деле, ни воздавали мнимому или действительному умственному превосходству, но нельзя не признать той истины, что везде и во всем обнаруживается общее тяготение к установлению над людьми господства посредственности. В Древнем мире, в Средние века, а также, хотя и в меньшей степени, и в этот длинный переходный период, который отделяет наше время от феодализма, индивидуум был сам по себе сила, а когда имел большие способности или высокое общественное положение, то и значительная сила. В настоящее время индивидуум затерян в толпе. В политике стало даже тривиальностью говорить, что теперь миром управляет общественное мнение. Теперь единственная сила, заслуживающая этого названия, есть сила массы, или сила правительства, когда оно является органом стремлений и инстинктов массы. Это одинаково верно как относительно нравственных и социальных отношений частной жизни, так и относительно общественных дел. Та публика, которой мнение называется общественным мнением, не всегда одна и та же: в Америке эта публика есть белое население, в Англии — преимущественно средний класс, но во всяком случае эта публика есть масса, т.е. коллективная посредственность. И, что составляет еще более замечательную новизну нашего времени, — масса берет свои мнения не от лиц, высоко стоящих в церковной или государственной иерархии, не от тех или других общепризнанных руководителей, и не из книг; ее мнения составляются для нее людьми, весьма близко к ней подходящими, которые, под впечатлением минуты, обращаются к ней или говорят от ее имени в газетах. Я нисколько не жалуюсь на все это. Я не утверждаю, чтобы при теперешнем низком состоянии человеческого ума могло существовать, как общее правило, что-нибудь лучше, чем это. Но это нисколько не противоречит тому, что правительства посредственности суть посредственные правительства. Никогда правительство демократии или малочисленной аристократии ни своими политическими действиями, ни своими мнениями, ни качествами, ни настроением умов, какое оно питало в людях, никогда такое правительство не возвышалось и не могло возвыситься выше посредственности, исключая те случаи, когда государь-толпа руководились (что всегда и бывало в лучшие времена этих правительств) советами и указаниями более высокоодаренных и более высокообразованных одного или нескольких индивидуумов. От индивидуумов исходит и должна исходить инициатива всего мудрого, всего благородного, — и притом, на первый раз, обыкновенно всегда от одного индивидуума. Честь и слава серединных людей состоит в их способности следовать за этой инициативой, — в способности находить в себе отзыв на все мудрое и благородное и, наконец, в способности дозволить себя вести к этому с открытыми глазами. Я вовсе не имею намерения поощрять то поклонение героям, которое рукоплещет могущественному гению, когда тот силой захватывает себе в руки управление миром и насильно заставляет мир исполнять свои повеления. Все, чего такой человек может справедливо себе требовать, это — свободы указывать путь другим людям; но принуждать людей идти по тому или другому пути, это не только непримиримо с их свободой и развитием, но и непримиримо с достоинством гениального человека.
Общей тенденции, которая привела к тому, что мнение масс, состоящих из серединных людей, повсюду сделалось или делается господствующей властью, — этой тенденции должна, по-видимому, противодействовать все более и более резко обозначающаяся индивидуальность мыслящих людей. В такое время, как наше, более, чем когда-либо, надо не запугивать, а напротив, поощрять индивидуумов, чтобы они действовали не так, как действует масса. В другие времена не было никакой пользы в том, чтобы индивидуум действовал не так, как масса, если притом он не действовал лучше, чем масса; но теперь неисполнение обычая, отказ преклоняться перед ним, есть уже само по себе заслуга. Потому именно, что тирания мнения в наше время такова, что всякая эксцентричность стала преступлением, потому именно и желательно, чтобы были эксцентричные люди, — это желательно для того, чтобы покончить с этой тиранией. Там всегда было много эксцентричных людей, где было много сильных характеров, и вообще в обществе эксцентричность бывает пропорциональна гениальности, умственной силе и нравственному мужеству. То обстоятельство, что теперь так мало эксцентричных людей, и свидетельствует о великой опасности, в какой мы находимся.
Я сказал, что в высшей степени важно дать как можно более простору тому, что не соответствует обычаю, для того чтобы можно было видеть, из несоответствующего обычаю не заслуживает ли что-нибудь быть обращенным в обычай. Из этого не следует, чтобы независимость действия и неподчинение обычаю заслуживали поощрения потому только, что могут создать лучшие образы действия и обычаи, более достойные общего признания, чем те, которые существуют в данное время, — из этого не следует, чтобы только те люди, которые отличаются умственным превосходством, могли иметь справедливое притязание устраивать свою жизнь по своему личному усмотрению. Нет никакого основания, почему бы существование всех людей должно было быть устраиваемо на один манер, или по небольшому числу раз определенных образцов. Если только человек имеет хотя самую посредственную долю здравого смысла и опыта, то тот образ жизни, который он сам для себя изберет, и будет лучший, не потому чтобы быть лучше сам по себе, а потому, что он есть его собственный. Люди не бараны, да и бараны даже не до такой степени схожи между собой, чтобы совершенно не отличались один от другого. Чтобы иметь платье или сапоги, которые были бы ему впору, человек должен заказывать их по своей мерке или выбирать в целом магазине, — неужели же легче снабдить человека пригодной для него жизнью, чем пригодным для него платьем? Неужели люди более схожи между собой в физическом и нравственном отношении, чем по форме своих ног? Если бы даже люди не имели между собой никакого другого различия, кроме различия вкусов, то и в таком случае не было бы никакого основания подводить их всех под один образец. Различные люди требуют и различных условий для своего умственного развития, и если, несмотря на свое различие, будут все находиться в одной и той же нравственной атмосфере, то не могут все жить здоровой жизнью, точно также как не могут все различные растения жить в одном и том же климате. То, что для одного человека есть средство к развитию, для другого есть препятствие к развитию. Один и тот же образ жизни служит для одного здоровым возбуждением всех его сил, благодетельно действует на все его способности к деятельности и к наслаждению, а для другого, напротив, составляет гнетущую тяжесть, которая приостанавливает или прекращает всякую внутреннюю жизнь. У людей не одни и те же источники наслаждения и не одни и те же источники страдания; на них не одинаково действуют различные физические и нравственные условия, и если их различию между собой не соответствует различие в образе жизни, то они не могут достигнуть всей полноты возможного для них счастья, не могут достигнуть того умственного, нравственного и эстетического совершенства, на какое способны. На каком основании общественное чувство простирает свою терпимость только на те вкусы, на те образы жизни, которые имеют много приверженцев? Различие во вкусах нигде (исключая разве только монастыри) совершенно не отрицается; человек может, не подвергая себя осуждению, любить или не любить табак, музыку, физические упражнения, шахматы, карты, чтение, и это потому, что как те, которые любят эти вещи, так и те, которые их не любят, слишком многочисленны, чтобы можно было не признать их голос. Но если кто-либо, а тем более если этот кто-либо — женщина, сделает то, «чего никто не делает», или не сделает того, «что все делают», — то подвергается такому же строгому осуждению, как если бы был учинен какой-нибудь важный нравственный проступок. Те люди, которые имеют титулы или какие-нибудь внешние признаки, свидетельствующие о том, что они занимают в обществе высокое положение, или пользуются уважением людей высоко стоящих, такие люди еще могут дозволять себе некоторую незначительную степень свободы, без вреда для своей репутации, — но только некоторую незначительную степень, повторяю, потому что, если кто дозволит себе сколько-нибудь значительную степень свободы, то рискует навлечь на себя нечто худшее даже, чем оскорбительные речи, -рискует, что его потребуют перед комиссией de Lunatico, отнимут у него собственность и отдадут ее родственникам[7].
Общественное мнение имеет теперь именно то направление, при котором оно делается наиболее склонным к нетерпимости ко всякого рода сколько-нибудь резкому проявлению индивидуальности. Общее свойство людей нашего времени — не только умственная умеренность, но и умеренность даже в наклонностях: у них нет ни потребностей, ни желаний довольно сильных, чтобы побудить их сделать что-либо, не соответствующее тому, что общепринято, — они даже не понимают, чтобы люди могли иметь сильные потребности или сильные желания, и тех, кто их имеет, причисляют обыкновенно к одному разряду с распутными и невоздержанными людьми, которых привыкли презирать. Предположим, что при таком общем направлении возникнет сильное стремление к улучшению нравственности; очевидно, что при этом должно произойти. Подобное стремление и на самом деле теперь существует, и многое уже действительно сделано для установления большей правильности в действиях людей и для устранения всякого рода уклонений от общих правил, — теперь в большом ходу филантропизм, которому не представляется другого более привлекательного для него поприща, как умственное и нравственное усовершенствование нам подобных. Эти тенденции нашего времени имеют своим последствием то, что общество теперь более, чем когда-либо, заражено наклонностью подчинять людей общим правилам поведения и подводить всех и каждого под установленный им тип. А этот тип, создают это или не сознают, во всяком случае есть не что иное, как отсутствие всякого рода сильных желаний. Теперешний идеал характера состоит в том, чтобы не иметь никакого определенного характера, — в том, чтобы сдавливать, как китаянка сдавливает свою ногу, и таким образом изувечивать все, что в человеке выдается сколько-нибудь вперед и может сделать его отличным от средних людей.
Как это обыкновенно бывает со всяком идеалом, который не обнимает собою вполне всего того, что на самом деле должно быть желательно, — господствующий теперь идеал характера образует только такие характеры, которые суть не что иное, как слабый образчик именно того, что этим идеалом не признано. Вместо сильной энергии, которая бы управлялась сильным умом, — вместо сильного чувства, которое бы строго контролировалось сознательной волей, мы имеем слабое чувство и слабую энергию, которая без большего усилия воли или ума приводится во внешнее, по крайней мере, соответствие с правилом. Широкие энергические характеры теперь стали уже преданием. У нас, в Англии, едва ли для энергии открыто теперь какое-нибудь другое поприще, кроме приобретения. Только в этом отношении и замечается еще сколько-нибудь значительная энергия. А вся та часть энергии, которая не расходуется на удовлетворение страсти к приобретению, тратится на какие-нибудь пустяки, обращается на достижение таких целей, которые, может быть, и полезны, и даже филантропичны, но всегда исключительны и вообще крайне ничтожны, мелки. Величие Англии в настоящее время есть величие чисто коллективное: индивидуально мы мелки, и если еще способны совершить что-нибудь великое, то единственно благодаря нашей способности действовать сообща. Наши нравственные и религиозные филантропы совершенно довольны таким состоянием, но мы заметим мы, что не такого покроя, какой мы видим теперь, были люди, которые сделали Англию тем, чем она стала, и что не такого покроя люди, как теперь, потребуются для того, чтобы удержать Англию от падения.
Деспотизм обычая повсюду составляет препятствие к человеческому развитию, находясь в непрерывном антагонизме с той наклонностью человека стремиться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай, которая, смотря по обстоятельствам, называется то духом свободы, то духом прогресса или улучшения. Дух улучшения не всегда есть вместе и дух свободы, потому что может стремиться и к насильственному улучшению, вопреки желанию тех, кого это улучшение касается, и тогда дух свободы, сопротивляясь такому стремлению, может даже оказаться временно заодно с противниками улучшения. Свобода есть единственный верный и неизменный источник всякого улучшения: там, где существует свобода, там может быть столько же независимых центров улучшения, сколько индивидуумов. Впрочем, прогрессивный принцип, под каким бы видом он ни проявлялся, под видом ли любви к свободе, или любви к улучшению, во всяком случае есть враг господства обычая и необходимо предполагает стремление освободить людей от его ига. В борьбе между этим принципом и обычаем и заключается главный интерес истории человечества. Большая часть мира, собственно говоря, не имеет истории именно потому, что там безгранично царствует обычай. Такова судьба всего Востока. Там обычай есть во всем верховный судья, — там справедливость, право — значит соответствие обычаю, — там никто и в мыслях не имеет, чтобы можно было воспротивиться обычаю, и только разве изредка какой-нибудь тиран нарушает обычай в упоении власти. Мы видим, к каким это ведет последствиям. У народов Востока существовала некогда индивидуальность, оригинальность: это были некогда многочисленные, образованные народы, у которых процветали многие искусства, и всем своим развитием они были обязаны самим себе, и были тогда самыми великими, самыми могущественными народами мира. И что же теперь стало с ними? Они теперь в подданстве или в зависимости у тех самых племен, которых предки странствовали в лесах в то время, как их предки имели великолепные дворцы и храмы, и все это сделалось потому, что у этих варварских племен обычай господствовал только наполовину, и рядом с обычаем существовали свобода и прогресс. Эти народы, как видно, были когда-то прогрессивны и потом остановились в своем развитии: когда же произошла эта остановка? А именно тогда, когда у них перестала существовать индивидуальность. Если подобное этому должно совершиться и с европейскими народами, то это совершится с ними несколько иначе, потому что то, чем им угрожает господствующий у них деспотизм обычая, не есть собственно неподвижность: этот деспотизм, хотя и преследует всякую самобытность, оригинальность, но он не против перемен, если только эти перемены совершаются разом для всех и со всеми. Мы бросили мундирные костюмы, которых так строго держались наши предки, — мы изменяем наши моды довольно часто, и раз, и два раза в год, но изменяем не иначе, как все сообща, разом, и каждый из нас считает непременно нужным быть одетым так, как одеты другие. Таким образом мы делаем изменения собственно ради изменения, а не ради красоты или удобства: не может же быть, чтобы все вдруг разом, в одно время, убеждались в красоте или удобстве делаемого изменения, — или чтобы все вдруг разом изменяли свое мнение о том, что до этого находили хорошим или удобным. Впрочем, мы не только склонны к переменам, но и прогрессивны; мы постоянно изобретаем какие-нибудь механические усовершенствования и потом без затруднения бросаем их, когда изобретаем что-нибудь лучшее, — особенно же мы падки на всякого рода улучшения в политике, воспитании и даже в нравственности, хотя в последнем случае под улучшением мы понимаем, обыкновенно, не что иное, как навязывание наших мнений другим посредством убеждения или даже просто насилием. Собственно говоря, мы не только не враги прогресса, а напротив, считаем себя самым прогрессивным народом, какой когда-либо существовал; но мы — против индивидуальности, мы воображаем, что совершим великое дело, если добьемся того, что все люди будут совершенно похожи друг на друга, — мы забываем, что для каждого человека существование таких людей, которые на него не похожи, составляет существенное условие для того, чтобы он был в состоянии сознавать свои недостатки и те достоинства, которых у него нет, и комбинируя между собой достоинства разных типов, восходить таким образом к образованию высшего типа. Не должны мы упускать из виду тот весьма поучительный пример, какой представляют нам китайцы. Это — народ весьма способный и даже во многих отношениях весьма мудрый, благодаря тому исключительному счастью, какое выпало на его долю, что установившиеся у него с ранних времен обычаи были замечательно хороши. Тех людей, которые были до некоторой степени виновниками этих обычаев, нельзя не признать с некоторыми ограничениями за людей мудрых и философов. Мы находим у них замечательный по своему совершенству аппарат для того, чтобы вся та мудрость, какой только обладают люди, была в наивозможно большей степени усваиваема каждым членом общества: здесь и почет, и власть принадлежат тем, кто обладает большей степенью мудрости. По-видимому народ, устроивший у себя такие порядки, открыл ключ к человеческой прогрессивности и должен идти постоянно во главе всемирного развития; а между тем мы видим совершенно противное: народ этот впал в неподвижность, в которой пребывает уже несколько тысячелетий, и если у него возможно еще какое усовершенствование, то не иначе, как через влияние иностранцев. То, к чему так ревностно стремятся наши английские филантропы, китайцы осуществили у себя с таким совершенством, какого трудно было даже ожидать; у них все люди — как один человек, у всех одни мысли, одни понятия, одни правила, — и что же вышло из этого? Наш regime общественного мнения представляет совершенное тождество с воспитательной и политической системой Китая; вся разница только в том, что наш regime находится в неорганизованном состоянии, а китайская система окончательно организована, и если индивидуализм не устоит против стремлений этого regime, то Европа, несмотря на все свое прекрасное прошедшее и несмотря на все свое христианство, сделается вторым Китаем.
Что предохраняло до сих пор Европу от подобной участи? Почему семья европейских народов была до сих пор не неподвижно, а постоянно совершенствующейся частью человечества? Не потому, конечно, чтобы европейские народы имели какое-нибудь превосходство перед другими народами, так как это превосходство, если оно и существует, во всяком случае есть следствие, но не причина, — а потому, что они постоянно отличались большим разнообразием характеров и культуры; Индивидуумы, классы общества, народы, все это представляло в Европе весьма резкое разнообразие, и все эти разнообразия стремились к прогрессу весьма различными путями. Правда, таково было общее явление всех эпох европейской истории, что шедшие по одному пути обнаруживали, обыкновенно, крайнюю нетерпимость к шедшим по другому пути и считали верхом совершенства, если бы могли достигнуть того, чтобы все шли по одному пути с ними; но это взаимное посягательство друг на друга редко увенчивалось сколько-нибудь постоянным успехом и имело своим последствием только то, что каждый в свою очередь подвергался необходимости воспользоваться теми плодами, какие достигались другими. Этому разнообразию путей Европа и обязана, по моему мнению, своим прогрессивным и многосторонним развитием. Но в настоящее время она начинает уже значительно утрачивать это качество и заметно склоняется к китайскому идеалу, — к уничтожению всякого рода разнообразий. Токвиль в своем последнем замечательном произведении говорит, что французы теперешнего поколения гораздо более похожи друг на друга, чем французы предшествовавших поколений; то же самое, только еще в большей степени, заметно и у англичан.
По мнению Вильгельма Гумбольдта, как мы видели выше, два условия необходимы для человеческого развития, потому что только при существовании этих условий и возможно, чтобы люди не походили друг на друга, а именно: свобода и разнообразие положений. Второе из этих условий в нашей стране с каждым днем все более и более утрачивается, с каждым днем все более сглаживается всякое разнообразие внешних условий жизни. В прежнее время различные классы общества, различные местности, промыслы, ремесла, все это жило своей особой жизнью, составляло, так сказать, свои особые отдельные миры, а теперь все эти отдельные миры до значительной степени сливаются в один мир, — теперь, сравнительно говоря, все читают, слышат, видят одно и то же, посещают одни и те же места, у всех одинаковые цели, одинаковые надежды и опасения, все имеют одинаковые права и вольности, одинаково ими пользуются, у всех одни и те же средства для их охранения. Конечно, существующее разнообразие положений еще весьма значительно, но оно ничтожно в сравнении с тем, что было прежде, и с каждым днем все более и более сглаживается. Этому сглаживанию всех разнообразий содействуют все политические перемены нашего времени, так как все они имеют одно общее направление, стремятся к тому, чтоб повысить то, что ниже, понизить то, что выше, и таким образом, все привести к одному уровню. Этому содействует и самое распространение просвещения, так как он влечет за собой подчинение людей общим влияниям, делает для всех доступным один и тот же запас фактов и чувств, — этому содействуют и все улучшения в средствах сообщения, потому что вследствие этого увеличивается личное столкновение между жителями отдаленных местностей, — наконец к этому же ведет и самое процветание торговли и промышленности, потому что, доставляя людям довольство, оно вместе с тем делает для них доступными даже самые высокие цели честолюбивых стремлений, так что эти цели перестают уже быть особенной принадлежностью какого-нибудь класса, а становятся общим достоянием всех. Мало того: в обществах нашего времени над этим сглаживанием индивидуального разнообразия работает еще такая сила, которая могущественнее всех тех влияний, о которых мы упомянули; эта сила есть общественное мнение. Постепенно подводятся одно за другим под общий уровень все высокие общественные положения, которые давали возможность индивидуумам не обращать внимания на мнение толпы. Политическим практикам нашего времени становится все более и более чуждой даже и сама мысль о сопротивлении общей воли, когда эта воля положительно известна, — исчезают одна за другой все социальные поддержки, на которые могло бы опереться отступление от общепринятого, — в обществах уже нет более сколько-нибудь состоятельной силы, которая имела бы интерес противостоять преобладанию числа и охранять такие мнения и стремления, которые не согласны с господствующими.
Все исчисленные нами влияния, враждебные индивидуальности, составляют в совокупности силу столь могучую, что нелегко сказать, каким образом индивидуальность может отстоять себя, и угрожающая ей опасность будет, без сомнения, все более и более расти, если только разумная часть общества сама не сознает наконец, что индивидуальность имеет высокую цену, — что разнообразие во всяком случае есть благо, если бы даже оно состояло в отступлении от общепринятого не только к лучшему, но и к худшему. Теперь, пока еще общая ассимиляция не совсем совершилась, — теперь более, чем когда-либо, своевременно заявить право индивидуальности; надо стараться остановить посягательство, пока еще оно не совершилось, а после будет поздно. Общее стремление подвести всех людей под один тип с каждым днем все более и более растет, и если мы раз допустим, что все живое будет подведено под один однообразный тип, тогда уже будет поздно сопротивляться, тогда всякое отступление от общего типа сделается нечестием, безнравственностью, чудовищностью, противоестественностью. Если люди не будут иметь разнообразия перед глазами, то они скоро утратят и самую способность к разнообразию.
Глава IV
О пределах власти общества над индивидуумом
Где тот предел, до которого должно простираться самодержавие индивидуума? Где должна начинаться власть общества? Какая часть индивидуальной жизни должна составлять полное достояние индивидуальности, и какая должна подлежать ведению общества?
И индивидуум, и общество, не переступят должных пределов, если будут простирать свою власть только на то, что их ближе касается. Та часть человеческой жизни, которая касается главным образом индивидуума, должна составлять достояние индивидуальности, а та, которая касается главным образом общества, должна подлежать ведению общества.
Хотя общество и не основано на контракте и вся эта контрактная гипотеза, придуманная для объяснения социальных обязанностей, совершенно бесполезна, но тем не менее каждый, пользующийся покровительством общества, обязан за это вознаграждением, и самый уже тот факт, что индивидуум живет в обществе, делает для него неизбежным существование обязанности исполнять известные правила поведения по отношению к другим людям. Эти правила состоят, во-первых, в том, чтобы не нарушать интересов других людей, или, правильнее сказать, тех их интересов, которые положительный или подразумеваемый закон признает за ними, как право; а, во-вторых, они состоят в том, что каждый должен выполнять приходящуюся на его долю часть (что должно быть определено на каком-либо справедливом основании) трудов и жертв, необходимых для защиты общества или его членов от вреда и обид. Общество имеет полное право принудить к выполнению этих обязанностей, если бы кто-либо вознамерился от них освободиться. Но не в этом только заключается власть общества над индивидуумом. Действия индивидуума, и не нарушая никаких установленных прав, могут вредить интересам других людей или могут не принимать их в должное внимание: хотя индивидуум в этом случае и не подлежит легальной каре, но справедливо может быть наказан карою общественного мнения. Как скоро поступок человека вредит интересам других людей, то общество, без сомнения, имеет право вмешаться, и здесь может возникнуть только вопрос о том, вмешательство общества в данной случае будет ли полезно для общего блага или вредно. Но никакого подобного вопроса о пользе или вреде общественного вмешательства и не может быть в том случае, когда действия индивидуума не касаются ничьих интересов, кроме его собственных, или касаются только интересов тех людей, которые сами того желают (при этом подразумевается конечно, что люди эти находятся в совершенном возрасте и полном обладании своих способностей). Во всех такого рода случаях индивидууму должна быть предоставлена полная свобода, и легальная, и социальная, действовать по своему усмотрению на свой риск.
Заключить из сказанного нами, что будто мы возводим в доктрину эгоистическую индифферентность, что будто мы признаем, что индивидууму нет никакого дела до того, как живут другие индидуумы, или что вообще поступки и благосостояние других людей касаются его только в той степени, насколько замешаны в это его личные интересы, — делать такое заключение значило бы обнаружить крайнее непонимание того, что мы говорим. Не ослабления, а напротив, усиления в индивидууме самоотверженного стремления к благу других, — вот чего хочет излагаемая нами доктрина; но при этом она признает, что не кнут и плеть (понимая это и в буквальном, и в метафорическом смысле), а другие средства должны избирать благодетели для убеждения своих ближних в том, что есть благо. Я не менее, чем кто-либо, высоко ценю личные добродетели, я утверждаю только, что по сравнению с социальными добродетелями они стоят на втором месте, если только еще не ниже. Воспитание должно иметь одинаково своей целью как социальные, так и личные добродетели. Оно обыкновенно действует столько же и насилием, сколько и убеждением; но с окончанием периода воспитания личные добродетели должны быть внушаемы индивидууму не иначе, как посредством убеждения. Люди должны помогать друг другу различать хорошее от дурного, должны поощрять друг друга предпочитать хорошее дурному и избегать дурного; они должны возбуждать друг друга к упражнению высших способностей, поддерживать один в другом те чувства и те стремления, которые имеют своим предметом умное и высокое, а не то, что глупо или что унижает человека. Но никто, будет ли этот никто один человек или какое бы то ни было число людей, не вправе препятствовать кому бы то ни было (разумеется, достигшему зрелого возраста) распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Благосостояние каждого индивидуума ближе всего касается его самого; тот интерес, который оно может возбуждать в других людях, ничтожен (за исключением случаев сильной личной привязанности) по сравнению с тем интересом, который оно возбуждает в нем самом; общество же имеет интерес в благосостоянии индивидуума (исключая его отношения к другим людям) только отчасти и притом косвенно. Каждый, самый даже обыкновенный человек, как мужчина, так и женщина, имеет несравненно более сильные средства, чем кто-либо, к познанию того, что для него есть благо. Вмешательство общества в те суждения и стремления индивидуума, которые касаются только его лично, необходимо должно основываться на каких-нибудь общих предположениях; но предположения эти могут быть совершенно ошибочны, а если не ошибочны, то они легко могут быть применены совершенно не кстати в таких случаях, к которым совершенно непригодны, так как самое применение их должно производиться людьми, знающими обстоятельства данного случая только поверхностно, снаружи. Эта часть человеческой жизни есть сфера индивидуальности. В отношениях своих к другим людям необходимо, чтобы индивидуум соблюдал в большей части случаев известные общие правила, дабы каждый знал, чего может ожидать от других; но в том, что касается его самого лично, индивидуум должен быть вполне самодержавен. Можно представлять ему разные соображения и доводы, для того чтобы направить так или иначе его суждение, можно увещевать его, чтобы дать то или другое направление его воле, все что можно делать, если бы даже он этого и не желал, но он во всяком случае есть высший судья того, что и как ему делать, и если он поступит вопреки всем советам и предостережениям и через это сделает сам себе вред, то этот вред далеко не может быть так велик, как велико было бы то зло, если бы он насильно принужден был поступить так, как другие признают для него благом.
Я вовсе не думаю утверждать, чтобы чувства к индивидууму других людей должны были быть совершенно независимы от личных достоинств или недостатков индивидуума. Это и невозможно, и нежелательно. Чем в высшей степени индивидуум обладает теми качествами, которые ведут к счастью, тем большее уважение внушает он к себе другим людям, тем больше приближается он к идеальному совершенству. И наоборот: если он обладает в значительной степени качествами отрицательными, то внушает к себе не уважение, а чувство, совершенно противоположное уважению. Есть известная ступень глупости, или, если можно так выразиться (хотя это выражение будет и не совсем правильно), известная степень подлости или извращения вкуса, которая хотя и не может, конечно, служить основанием для дурного обхождения с индивидуумом, но необходимо и весьма естественно внушает к нему отвращение, а в крайних случаях даже и презрение; не может это не возбуждать к себе подобных чувств в том человеке, который имеет в значительной степени качества, противоположные этим недостаткам. Даже и не причиняя никому зла, индивидуум может своими поступками сделать то, что другие люди будут смотреть на него, как на дурака или вообще как на существо низшего порядка, и будут питать к нему соответствующие этому чувства, и так как для индивидуума, конечно, не может быть желательно, чтобы о нем имели такое мнение, чтобы к нему питали подобные чувства, то предостерегая его от этого, мы окажем ему услугу, как и вообще предостерегая от всякого рода неприятных последствий, какие могут иметь для него его поступки. Весьма было бы желательно, чтобы для оказания друг другу подобного рода услуг не существовало тех преград, какие ставят этому господствующие в наше время понятия о вежливости, — чтобы люди могли честно указывать друг другу то, что считают ошибкой, не подвергая себя упреку в грубости или в самонадеянности. Мы имеем, конечно, полное право руководствоваться в поступках по отношению к известному индивидууму нашим дурным мнением о нем, — но только никак не в ущерб его индивидуальности, а не более как в пределах нашей собственной индивидуальной свободы. Так, например, мы не обязаны искать его общества, мы имеем право избегать его (но не высказывать этого явно), потому что имеем полное право избирать для себя то общество, которое нам более нравится. Мы имеем право, а может быть даже и обязанность, предостерегать от него других людей, если находим, что его пример или его разговор могут иметь дурное влияние. Во всем, в чем имеем право свободного выбора, мы можем оказывать предпочтение перед ним другим людям, с тем ограничением, впрочем, если это предпочтение не воздерживает нас от таких действий по отношению к нему, которые вели бы к его улучшению. Таким образом индивидуум может подвергаться весьма различным и весьма строгим карам от других людей за такие недостатки, которые непосредственно касаются только его самого; но он терпит эти кары только в той степени, в какой они непосредственно истекают из самих его недостатков, и подвергается им потому, что они составляют неизбежное, так сказать, естественное последствие его недостатков, а не потому, чтобы намеренно налагались на него, как наказание. Человек, который обнаруживает самонадеянность, упрямство, самодовольство, который не умеет довольствоваться умеренными средствами, не может воздержаться от вредных слабостей, предается чувственным наслаждениям в ущерб наслаждениям сердца и ума, — такой человек должен ожидать, что невысоко будет стоять во мнении других людей и не возбудит к себе большого расположения, и всякий ропот с его стороны будет совершенно неоснователен, если только не заслуживает он расположения людей какими-нибудь высокими социальными достоинствами и проявлению их не препятствуют те его личные недостоинства, которые касаются только его самого.
Я утверждаю, что все те поступки и все те качества индивидуума, которые касаются только его личные блага и не касаются блага других, — что все эти поступки и качества не могут служить основанием для других людей к каким-либо иным неблагоприятным к нему отношениям, кроме тех, которые, так сказать, естественно истекают из их дурного о нем мнения. Совершенно другое должны мы сказать о тех поступках индивидуума, которые вредны другим людям. Когда индивидуум посягает на нрава других людей, — наносит им вред или ущерб, не имея на то никакого права — обманывает их, действует двулично, -нечестно, или невеликодушно пользуется своими преимуществами перед другими людьми, — имея возможность устранить какое-нибудь зло, не делает этого из эгоизма, — все это такие поступки, которые заслуживают нравственного осуждения, а в важных случаях даже и нравственного возмездия и наказания. И не только сами эти поступки, но и те наклонности, которые располагают к совершению их, собственно говоря, безнравственны, заслуживают осуждения и могут даже внушить омерзение к индивидууму. Жестокосердие, злонамеренность, злонравие, зависть — самая антисоциальная и самая гнусная из всех страстей, скрытность и неискренность, раздражительность без достаточного основания, мстительность, не соответствующая причиненному злу, страсть господствовать над другими, желание захватить себе большую долю благ, чем какая следует, гордость греков, находящая удовольствие в унижении других, эгоизм, который себя и свои личные интересы ставит выше всего и все сомнительные вопросы решает в пользу своих интересов, — все это суть нравственные пороки, которые образуют дурной, ненавистный нравственный характер. Но те недостатки, касающиеся только самого индивидуума, о которых мы говорили выше, нельзя собственно назвать нравственными пороками, и как бы они ни были велики, они еще не делают человека дурным, не делают его достойным нравственного осуждения; они могут свидетельствовать о глупости индивидуума, об отсутствии в нем чувства собственного достоинства и самоуважения, но в таком только случае могут справедливо навлечь на него нравственное осуждение, если доводят его до забвения своих обязанностей к тем, по отношению к которым он обязан заботиться о себе. То, что называют обязанностью человека к самому себе, не имеет никакой социальной обязанности, если только по каким-либо обстоятельствам не становится в то же время и обязанностью к другим. Это выражение «обязанности к самому себе» означает обыкновенно не что иное, как только благоразумие, и во всяком случае никак не более, как самоуважение или саморазвитие; но во всем этом индивидуум не обязан никому никаким отчетом, потому что благо человечества не требует, чтобы он подлежал в этом отношении какой-либо отчетности.
Различие между потерей уважения, которой индивидуум может справедливо подвергнуться по причине своего неблагоразумия или по причине отсутствия личного достоинства, и между тем осуждением, которое он заслуживает, нарушая права других людей, — различие это не есть только номинальное. Наши чувства и наши отношения к индивидууму совершенно различны, смотря по тому, возбуждает ли он наше неудовольствие в таких предметах, которые мы считаем подлежащими нашему контролю, или же в таких, которые нашему контролю не подлежат. Если он нам не нравится, мы можем выразить свою антипатию к нему, можем держаться в стороне от него, как и вообще от всего, что нам не нравится, но это не дает нам права причинять ему за это какое-нибудь зло. Мы должны иметь в виду, что он и без того уже несет всю должную кару за свое заблуждение, или, во всяком случае, не избежит этой кары, и если он сам портит себе жизнь своими неблагоразумными поступками, то это не может служить основанием, чтоб мы портили ему жизнь еще более. Нас должно одушевлять в таком случае не желание наказать его, а скорее желание облегчить ему навлеченное им на себя наказание, указать ему, как может он от него избавиться или как может он избежать того зла, которое он навлек на себя своим поведением. Он может быть для нас предметом сострадания, даже отвращения, но никак не предметом злобы или мщения, — мы не вправе относиться к нему, как к врагу общества, и если мы не принимаем в нем особенного участия, не чувствуем к нему особенного расположения, то самое дурное, на что мы имеем право по отношению к нему, это — предоставить его самому себе. Но если индивидуум нарушает правила, соблюдение которых необходимо для индивидуального или коллективного блага других людей, если вредные последствия его поступков падают не на него только, но и на других, то в таком случае общество, как покровитель всех своих членов, должно сделать ему за это возмездие, должно подвергнуть его каре именно с той целью, чтоб наказать его, и притом такой каре, которая была бы достаточно строга, соответственна его вине. В этом случае индивидуум предстоит перед нашим судом, как виновный, — мы вправе не только произнести над ним суждение, но и вправе исполнить над ним наш приговор; в первом случае мы не вправе подвергнуть его какой-либо другой каре, кроме той, которая сама собой истекает из пользования нами такой же индивидуальной свободой, какую мы признаем и за ним.
Сделанное нами различие между той частью человеческой жизни, которая касается только самого индивидуума, и той, которая касается других людей, встретит, без сомнения, много противников. Нам могут возразить, что ни в каком случае поступки индивидуума не могут не касаться в большей или меньшей степени других индивидуумов, которые живут с ним в одном обществе, — что индивидуум ни в каком случае не может быть совершенно уединен от других людей, и если он делает себе зло, то это не может не причинять большего или меньшего вреда по крайней мере тем людям, которые к нему особенно близки, а даже нередко и тем, которые не находятся с ним ни в каких близких отношениях. Если он дурно распоряжается своим имуществом, то это делает вред тем, для которых его имущество прямо или косвенно давало средство к существованию, и во всяком случае это уменьшает в большей или меньшей степени общую сумму богатства, находящегося в обществе. Если он действует ко вреду своих физических или умственных способностей, то это не только причиняет вред всем тем, которых благо более или менее от него зависит, но кроме того, он сам может сделаться вследствие этого неспособным к тем услугам, которые обязан оказывать своим ближним, и может даже сделаться тяжестью для тех, кто его любит или кто к нему расположен, и если таких индивидуумов в обществе будет много, то едва ли что-нибудь может причинить общей сумме блага больший ущерб, чем это. Наконец, если индивидуум своими пороками или своим неблагоразумением и не делает прямо вреда другим людям, то он вредит уже тем, что подает дурной пример, и потому может справедливо быть принужден к воздержанию себя от таких поступков, которые могут совратить других с истинного пути или ввести в заблуждение.
И даже — могут прибавить мои противники — если бы последствия неблагоразумных поступков и не касались никого, кроме того порочного и неблагоразумного индивидуума, который их совершает, то и в таком случае общество не должно дозволять этому индивидууму свободно распоряжаться своими действиями, так как он очевидно оказывается к этому неспособным. Ведь никто не станет оспаривать, что дети и малолетние должны быть охраняемы от вреда, какой могут сделать сами себе, — не такая ли же обязанность лежит и на обществе по отношению к тем людям, которые хотя и достигли зрелого возраста, но также как дети и малолетние не способны к самоуправлению. Если страсть к игре, пьянство, невоздержанность, праздность, неопрятность не менее вредны для блага, составляют не меньшее препятствие к усовершествованию, как и многие, или как большая часть тех действий, которые запрещаются законом, то почему же — могут спросить наши противники — не мог бы закон преследовать и эти пороки, насколько это практически возможно и насколько это примиримо с другими требованиями общественной жизни? и почему бы в помощь закону, который не может избежать несовершенства, — почему бы ему в помощь не могло общественное мнение организоваться в могущественную полицию для преследования этих пороков и подвергать строгим социальным карам тех, кто оказывается в них виновным? Здесь идет вопрос не о том — могут они сказать — чтобы стеснить индивидуальность или воспрепятствовать испытанию каких-либо новых, оригинальных идей, а о том, чтобы предупредить совершение таких вещей, которые давно уже испытаны и давно уже осуждены самым опытом, которые уже на опыте оказались неполезными или непригодными ни для какой индивидуальности; мы знаем, что правила нравственности или благоразумия требуют для своей выработки значительного времени и значительной суммы опытов, и желаем только, чтобы новые поколения предохранялись от тех ошибок, которые были бедственны предшествовавшим поколениям.
Я совершенно согласен с тем, что зло, которое человек делает сам себе, может в значительной степени оскорблять чувства и интересы тех, которые к нему близки, и даже, хотя и в меньшей степени, чувства и интересы всего общества; но дело в том, что если человек своим поведением нарушает свои обязанности по отношению к другим индивидуумам или ко многим другим людям, то в таком случае его поступки не принадлежат уже к числу тех, которые касаются только его самого, и он подлежит за них нравственному осуждению в полном смысле этого слова. Если, например, человек по причине своей невоздержанности или расточительности не может платить долгов, или, будучи нравственно обязан заботиться о своем семействе, не может вследствие этого содержать или воспитывать членов своей семьи, то он, конечно, заслуживает осуждения и может быть справедливо подвергнут наказанию, но только никак не за невоздержанность или расточительность, а за неисполнение своей обязанности к семейству или к кредиторам; его нравственная вина была бы и не более, и не менее, если бы он и не расточал те средства, которые должен был употребить на уплату долгов или на содержание семейства, а обратил бы на самое выгодное предприятие. Барнуэль убил своего дядю, чтобы иметь деньги для своей любовницы, и за это его повесили; но если бы он убил дядю не для того, чтобы иметь деньги для любовницы, а чтобы устроить свои дела, то все равно был бы повешен. Часто случается, что человек причиняет огорчения своему семейству дурными своими привычками, и в этом случае он, конечно, заслуживает порицания за свою нечувствительность или неблагодарность; но он в такой же степени подлежал бы порицанию и в том случае, если бы предавался и таким привычкам, которые сами по себе не имеют ничего порочного, но огорчают тех, которые с ним вместе живут, или которые счастье от него зависит. Кто не соблюдает должного уважения к чувствам или интересам других людей, не будучи на то вынужден требованиями какого-либо высшего долга, или не имея для своего оправдания удовлетворение каких-либо законных личных стремлений, тот справедливо подлежит нравственному осуждению, но только за оказанное им неуважение, и никак не за те причины или за те убеждения, касающиеся только его лично, которые могли привести его к этому. Точно также если, вследствие эгоистического образа жизни, человек становится неспособен исполнять какую-либо обязанность, лежащую на нем по отношению к обществу, то он виновен перед обществом. Нельзя наказывать человека за то только, что он пьян: но следует наказать солдата или полицейского служителя, если он будет пьян при исполнении своей службы. Одним словом, все, что причиняет прямой вред индивидууму или обществу, или заключает в себе прямую опасность вреда для них, все это должно быть взято из сферы индивидуальной свободы и должно быть отнесено к сфере нравственности или закона.
Что же касается до тех действий индивидуума, которыми он не нарушает какой-либо определенной обязанности своей к обществу, и которые, будучи вредны только для него самого, не наносят прямо видимого вреда тому или другому индивидууму, то такие действия, если и могут причинять зло обществу, то зло только случайное, или, если можно так выразиться, истолковательное, и общество должно переносить это зло ради сохранения другого высшего блага, ради сохранения индивидуальной свободы. Если уже взрослые люди должны быть подвергаемы наказанию за то, что не заботятся о себе надлежащим образом, то скорее ради их собственного блага, а никак не на том основании, чтоб удержать их от порчи тех их способностей, которые им необходимы, чтоб приносить обществу ту пользу, требовать которую само общество не считает себя имеющим право. Я никак не могу признать, чтобы общество имело право в этом случае наказывать: как будто для того, чтоб возвысить даже самых слабых своих членов до обиходной рациональности в поступках, оно не имеет другого средства, как выжидать, пока они совершат какой-либо нерациональный поступок, и наказывать их за это легальной или нравственной карой. Общество имеет абсолютную власть над индивидуумом во весь период его детства и малолетства, чтобы сделать его способным к рациональности в поступках. Настоящее поколение есть полный хозяин как по воспитанию, так и вообще по устройству всей судьбы грядущего поколения, и хотя оно не может, конечно, сделать его совершенством мудрости и доброты, так как само терпит крайний недостаток и в том, и в другом, и хотя самые лучшие его стремления в этом отношении не всегда бывают в частных случаях и самые удачные, но оно имеет совершенно достаточные силы на то, чтобы сделать новое поколение столь же хорошим, как и оно само, или даже несколько лучшим. Если общество допустило, чтобы значительное число его членом дожило до зрелого возраста, оставаясь в детском состоянии, не приобретя способности руководствоваться в своих поступках рациональными соображениями, которые бы основывались не только на непосредственных, но и на более или менее отдаленных мотивах, то в таком случае общество само и виновато в последствиях этого. Оно вооружено не только всеми могущественными средствами воспитания, но и тем могущественным влиянием, какое обыкновенно имеет авторитет общепринятого мнения на умы тех, которые малоспособны иметь свои собственные мнения; кроме того, ему содействуют и те естественные кары, неизбежно падающие на каждого, кто своим поведением возбудит к себе отвращение или презрение в том, кто его знает, — и неужели же при всем этом общество может еще претендовать на необходимость для него существования такой власти, которая бы отдавала приказания и принуждала индивидуума к повиновению в том, что касается только его самого и что по всем правилам справедливости и здравой политики должно быть безраздельно предоставлено его индивидуальному решению, так как он несет на себе последствия этого решения. Ничто так не роняет кредит и не ослабляет силу имеющихся хороших средств для влияния на поступки людей, как когда прибегают для этого к дурным средствам. Если между теми людьми, которых намереваются насильственным образом принуждать к благоразумию или воздержанию, найдутся люди с такими задатками, из которых образуются сильные и независимые характеры, то неизбежно, что эти люди восстанут против такого насилия, потому что никогда не примирятся они с тем, чтобы, подобно тому как их контролируют в действиях, касающихся других людей, мог бы также кто-либо их контролировать и в том, что касается только их самих. Такое насилие имеет обыкновенно своим последствием то, что люди начинают считать за признак ума и мужества, когда кто-либо идет прямо наперекор власти и делает именно противное тому, что требует власть. Подобный пример представляет нам век Карла II, когда доходившая до фанатизма нравственная нетерпимость пуритан вызвала моду на грубость нравов. Что же касается до того возражения, что будто для общества необходимо оберегать своих членов от тех дурных примеров, какие могут им подавать порочные и распущенные люди, то я совершенно согласен с тем, что дурной пример может иметь вредное влияние, особенно же когда этот пример состоит в том, что делается зло людям и сделавший зло остается без наказания; но здесь идет дело не о таком поведении индивидуума, которое причиняет зло людям, а о таком, которое причиняет зло только ему самому, и я не вижу никакой возможности не согласиться с тем, что пример такого поведения должен иметь вообще скорее благодетельное, чем вредное действие, потому что в таком случае всегда, или по большей части, вместе с дурным поступком пример представляет и тяжелые или унизительные от него последствия для того, кто его совершил.
Но самый сильный аргумент против общественного вмешательства в сферу индивидуальности состоит в том, что такое вмешательство оказывается в большей части случаев вредным, обыкновенно совершается некстати и невпопад. Когда идет дело об общественной нравственности, или об обязанности, лежащей на индивидууме по отношению к другим людям, то в этих случаях общественное мнение, т.е. мнение господствующего большинства, хотя и бывает часто ошибочно, но имеет по крайней мере шансы быть правильным, потому что тут люди судят не о чем ином, как только о своих собственных интересах, — о том, какое влияние может иметь на их интересы, если будет дозволен индивидууму тот или другой образ действия. Но когда идет дело о таких поступках индивидуума, которые касаются только его самого, то мнение большинства, налагаемое как закон на меньшинство, имеет столько же шансов быть ошибочным, как и быть правильным; оно в таких случаях не более как мнение одних о том, что хорошо или дурно для других, а часто даже и менее, чем это, и публика руководствуется в своем суждении единственно своими собственными наклонностями, относясь с совершенным равнодушием к благу или удобству тех, чьи поступки судит. Есть много людей, которые чувствуют себя оскобленными в своих чувствах, считают для себя обидой, когда кто-либо совершает такой поступок, к которому они имеют отвращение; так один религиозный изувер на упрек, что не уважает в других религиозного чувства, ответил, что напротив, другие не уважают в нем его чувства, потому что упорствуют в своих заблуждениях. Но между чувством, которое имеет человек к своему собственному мнению, и тем чувством к этому мнению другого человека, который чувствует себя оскорбленным, между двумя этими чувствами такое же отношение, как между желанием вора взять у меня мой кошелек, и моим желанием сохранить его. Вкус человека есть его личное достояние в такой же степени, как и его мнение или его кошелек. Нетрудно представить себе в воображении такую идеальную публику, которая предоставляет каждому индивидууму полную свободу действовать по своему усмотрению во всех тех случаях, которые представляют какое-нибудь сомнение, как лучше поступать, и требует только воздержания от таких поступков, которые уже осуждены всемирным опытом; но существовала ли когда-нибудь подобная публика, которая ограничивала бы таким образом свое вмешательство? и была ли когда-нибудь такая публика, которая заботилась бы о том, что говорит всемирный опыт? Вмешиваясь в индивидуальную сферу, она обыкновенно не о чем ином и не думает, как только о чудовищности такого явления, что среди ее есть люди, которые действуют и чувствуют не так, как она; и этот критериум, едва прикрытый, предъявляют человечеству, как требование религии или философии, девять десятых пишущей братии, и моралисты, и философы. Они проповедуют нам, что такие-то вещи справедливы, потому что они справедливы, потому что мы чувствуем, что они справедливы; они учат нас, что мы должны искать в нашем собственном уме и в нашем сердце законы поведения, обязательные как для нас самих, так и для всех других людей. И что же делать бедной публике, как не применять к делу такие наставления, и если только в ней существует единодушие в степени сколько-нибудь значительной, то как же не возводить ей свои личные чувства в критерий добра и зла и не признавать их обязательными для всего мира?
Зло, о котором идет речь, не из тех зол, которые существуют только в теории, и читатель, может быть, ожидает, что я представлю примеры тому, как английская публика нашего времени возводит свои наклонности в нравственные законы. Я пишу трактат не о нравственных заблуждениях нашего времени, — это предмет слишком важный, чтоб о нем можно было говорить мимоходом, в виде пояснительных примеров. Тем не менее необходимо привести примеры, чтобы показать, что высказанный мною принцип имеет в наше время серьезное и практическое значение, и что я вооружаюсь против действительного, а не против воображаемого зла. Нетрудно доказать множеством примеров, что расширение пределов того, что можно назвать полицией нравов, составляет одну из самых всеобщих человеческих наклонностей, и что это расширение простирается до того, что захватывает даже самую бесспорную сферу индивидуальной свободы.
Я укажу прежде всего на те антипатии между людьми, которые проистекают единственно из того, что, будучи различных религиозных верований, люди исполняют неодинаковые религиозные обряды, и в особенности из того, что у них неодинаковая религиозная дисциплина. Припомните этот несколько уже избитый факт, что при всем различии и в догматах, и в обрядах ничем христианин не возбуждает в себе столь сильной ненависти со стороны магометанина, как тем, что ест свинину. Мало найдем мы примеров, чтобы что-нибудь внушало христианину или европейцу более сильное отвращение, чем какое чувствует магометанин к этому способу утолять голод. Причина этого отвращения заключается не в том, что есть свинину запрещено магометанской религией: вино также запрещается этой религией и мусульманин осуждает употребление вина, а между тем оно не возбуждает в нем отвращение. Омерзение, какое магометанин чувствует к мясу «нечистого животного», представляет ту особенность, что оно имеет совершенно характер инстинктивной антипатии; дело в том, что мысль о нечистоте, раз овладев чувствами человека, способна, по-видимому, возбуждать самое сильное омерзение к тому, что считается нечистым, даже в тех людях, которые сами вовсе не отличаются особенной чистотой. Замечательный пример подобного чувства, истекающего из представлений о религиозной нечистоте, находим мы также у индусов. Предположим теперь, что существует такой народ, которого большинство состоит из магометан, и что это большинство никому не дозволяет есть свинину. Для магометанских стран такой факт не есть что-либо небывалое[8]. Должны ли мы признать, что такое действие со стороны большинства будет законным пользованием той нравственной властью, какая должна принадлежать общественному мнению, а если нет, то почему? Употребление в пищу свинины на самом деле представляется большинству делом в высшей степени гнусным и большинство возмущается этим совершенно искренно, — оно совершенно искренно верит, что есть свинину запрещено Богом, что это противно Богу. На каком же основании можем мы в этом случае признать незаконным вмешательство общественного мнения? Здесь нет религиозного преследования, потому что хотя запрещение употреблять в пищу свиное мясо и имеет своим источником религию, но ведь нет такой религии, которая бы ставила кому-нибудь в обязанность есть свинину. Очевидно, что для осуждения подобных действий со стороны общества нет другого основания, кроме того, что общество не имеет права вмешиваться в то, что есть дело личного вкуса и касается только самого действующего.
Приведем другие примеры, более к нам близкие. Большинство испанцев признает величайшим нечестием, в высшей степени оскорбительным для Бога, если богослужение совершается на какой-либо другой манер, а не на римско-католический, и законы Испании не дозволяют никакого другого общественного богослужения, кроме римско-католического. Народы южной Европы не только признают брак духовным делом, противным религии, но смотрят на него, как на соблазн, как на бесстыдство, — брачное духовенство составляет для них предмет омерзения. Что могут сказать протестанты против этих совершенно искренних чувств, — против их стремления насильно подчинить своим требованиям некатоликов? Если мы признаем, что человечество имеет право вмешиваться в индивидуальную жизнь даже и в тех случаях, которые не касаются интересов других людей, то мы не можем не признать, что в обоих приведенных нами примерах нет ничего, что заслуживало бы осуждения. И на каком основании, в самом деле, можем мы в таком случае осуждать людей, когда они стремятся уничтожить то, что по их совершенно искренним убеждениям есть вместе и оскорбление Бога, и оскорбление человека? Никакое преследование какой бы то ни было индивидуальной безнравственности не может представить себе более сильное оправдание, чем какое имеет за себя то преследование, которое совершается во имя искренних религиозных чувств, и нам ничего более не остается, как или принять логику преследователей и сказать вместе с ними, что мы можем преследовать других, потому что мы нравы, а эти другие не могут преследовать нас, потому что они не правы, — или же отвергнуть такой принцип, который справедлив только тогда, когда он за нас, и составляет вопиющую несправедливость, если применяется против нас.
На приведенные мною примеры могут заметить, что они не имеют никакого практического значения и ничего подобного теперь быть не может, — что это совершенная невозможность, чтобы общественное мнение нашей страны стало кого-нибудь принуждать что-либо есть или не есть, жениться или не жениться, отправлять то или другое богослужение. Хотя такое замечание совершенно неосновательно, но мы тем не менее примем его во внимание и приведем другой пример, еще более к нам близкий и более у нас возможный. Везде, где только пуритане были достаточно могущественны, как, например, в Новой Англии и Великобритании во времена республики, они всегда стремились, и со значительным успехом, к уничтожению всех общественных и почти всех частных удовольствий, в особенности же они преследовали музыку, танцы, общественные игры, театры и вообще всякого рода увеселительные общественные собрания. До сих пор еще у нас, в Англии, очень много таких людей, которые по своим религиозным и нравственным понятиям строго осуждают все подобного рода удовольствия; люди эти принадлежат преимущественно к среднему классу, который имеет преобладающее значение при теперешнем общественном и политическом устройстве нашей страны, и нет ничего невозможного, что в один прекрасный день у них будет большинство в парламенте. Что скажут тогда члены нашего общества, которые не разделяют пуританских понятий, если их будут вынуждать сообразоваться в своем препровождении времени с религиозными и нравственными чувствами строгих кальвинистов и методистов? Не найдут ли они тогда желательным, чтобы эти благочестивые люди заботились о себе, а их оставили бы в покое? Не то ли же самое должны мы сказать и относительно всякого правительства, и относительно всякой публики, когда они предъявляют притязание запретить какое-нибудь удовольствие, потому что находят его дурным! Если раз мы признаем в принципе правильным подобное вмешательство общества в сферу индивидуальной свободы, то не будем иметь ни малейшего основания осуждать то или другое применение этого принципа, какое заблагорассудит сделать большинство парламента или вообще господствующая власть в обществе, — мы должны будем безропотно подчиниться требованиям идеальной христианской общины, как ее понимали первые колонисты Новой Англии, если только их секта или какая-нибудь другая, ей подобная, достигнет преобладания в обществе; а это не представляет никакой невозможности, потому что, как мы знаем по опыту, нередко религиозные секты, считавшиеся окончательно утратившими свое значение, вновь воскресали с полной силой.
Сделаем другое предположение, которое может быть еще более возможно, чем первое. Бесспорно, что в современном нам мире существует сильное стремление к демократическому общественному устройству. Утверждают, что будто в той стране, где это стремление успело наиболее осуществиться, где и и общество, и правительство отличаются наибольшим демократизмом, а именно, в Северо-Американских Соединенных Штатах, — утверждают, что будто бы там большинство смотрит чрезвычайно неблагоприятно на людей, дозволяющих себе более блестящий или более дорогой образ жизни, чем какой доступен самому большинству; что эти чувства большинства имеют там такое сильное влияние на общественную жизнь, как если бы и в самом деле существовали законы, регулирующие расходы, и что во многих частях Соединенных Штатов человек, имеющий большое состояние, встречает серьезное затруднение найти такой способ проживать свои доходы, который бы не навлек на него общего осуждения. Хотя подобное утверждение преувеличивает, без сомнения, то, что существует в действительности, но тем не менее оно указывает на такой факт, который не только не представляет ничего необыкновенного и не только весьма возможен, но и едва ли не составляет весьма вероятный результат, к которому может придти демократическое чувство везде, где с ним соединяются такие понятия, что общество имеет право налагать свое veto на тот или другой способ, каким индивидуум может тратить свои доходы. Если же мы при этом еще предположим значительное распространение социалистических идей, то нет ничего невозможного, что в обществах образуется такое большинство, которое будет считать позором иметь собственность выше известного незначительного размера, или жить такими доходами, которые не зарабатываются физическим трудом. Понятия, по принципу близко подходящие к этим, уже значительно преобладают в рабочем классе и видимо дают уже чувствовать свою тяжесть тем, которые находятся главным образом в зависимости от понятий, господствующих в этом классе, т.е. самим же рабочим. Известно, что между дурными работниками — а они составляют большинство во многих родах производства — установилось такое мнение, что дурной работник должен получать ту же заработную плату, как и хороший, и что не следует дозволять, чтобы один работник получал более, чем другой, под каким бы то ни было предлогом, потому ли что работает лучше, или потому что вырабатывает больше. У них образовалась даже своего рода полиция, которая старается препятствовать тому, чтобы хорошие работники получали более высшую плату, или чтобы хозяева платили им больше, чем дурным работникам, и эта полиция при случае превращается даже в настоящую полицию, которая действует не только нравственными, но и прямо физическими средствами. Если раз мы признаем, что общество имеет право на какое-нибудь вмешательство в то, что касается только самого индивидуума, то я не вижу никакого основания, почему мы могли осудить в этом случае действия рабочего класса, почему бы мы могли не признать за отдельной частью общества такой же власти над составляющими ее индивидуумами, какую признаем за всем обществом, вместе взятым, над всеми индивидуумами безразлично.
Впрочем, мы не имеем никакой надобности ограничиваться одними только предположениями; мы можем указать действительно существующие в наше время весьма грубые нарушения индивидуальной свободы, и еще более грубые нарушения, которыми нам угрожают в будущем и которые легко могут осуществиться, — и наконец мы можем указать на такие действительно существующие в наше время понятия, которые признают за обществом неограниченное право запрещать законом не только все то, что оно признает злом, но даже и то, что само по себе признается совершенно безвредным, если только это запрещение нужно для более полного искоренения преследуемого зла.
Так для того, чтобы уничтожить пьянство, в одной английской колонии и почти в целой половине Соединенных Штатов запрещено было законом употреблять крепкие напитки за исключением тех случаев, когда это нужно для лечения как лекарство; собственно говоря, закон запрещал только торговать крепкими напитками, но на практике это совершенно было равнозначно тому, как если бы запрещено было их употреблять, и сторонники закона, собственно, это и имели в виду. Хотя этот закон и оказался на практике невыполним и потому был отменен во многих штатах, которые сначала его приняли, и даже в том штате, который дал ему свое имя, но несмотря на это и у нас сделана была попытка поднять агитацию в пользу подобного закона, при чем некоторые записные филантропы выказали довольно замечательное рвение. С этой целью организовалось у нас даже особое общество, называвшееся Alliance. Общество это получило некоторую известность благодаря гласности, какая была дана переписке его секретаря с одним из тех немногих государственных людей Англии, которые признают, что мнения государственного человека должны быть основаны на принципах. Участие, какое лорд Стэнли принял в этой переписке, еще более усиливает те надежды, которые он возбудил во всех, кто знает, как редко встречаются на нашей политической арене те качества, которые он не раз уже имел случай выказать в своей общественной деятельности. Общество в лице своего секретаря выражает «глубокое сожаление, что его принцип может быть извращен для определения фанатизма и преследования» и старается доказать, что «широкая и неодолимая преграда» отделяет его от подобных принципов. «Мысль, мнение, совесть, я признаю, что все это, — говорит секретарь общества, — вне сферы закона; только то, что составляет социальный акт, что касается отношений между членами общества, только то подлежит власти не индивидуума, а государства». О тех же актах, которые суть не социальные, а индивидуальные, он и не упоминает, а между тем к этому именно разряду и принадлежит употребление крепких напитков. Но продажа крепких напитков, могут мне заметить, один из видов торговли, а торговля есть социальный акт. Я замечу на это, что зло, которое имеется в виду обществом, заключается не в свободе продавца, а в свободе покупателя и потребителя: если государство имеет право принимать меры с целью, чтоб нельзя было достать крепких напитков, то оно в таком случае имеет такое же право и прямо запретить их употребление. Но секретарь общества утверждает вот что: «...я, как гражданин, признаю за собой право на такие законы, которые бы ограждали меня от таких социальных актов со стороны моих сограждан, которые препятствуют мне пользоваться моим социальным правом». Эти социальные права он определяет так: «Ничто в такой степени не нарушает моих социальных прав, как торговля крепкими напитками; она уничтожает мое право на безопасность, потому что создает и непрестанно поддерживает беспорядки в обществе. Она нарушает мое право на равенство, обращая в свой барыш ту подать, которую я плачу на содержание бедных. Она парализует мое право на свободное, нравственное и умственное развитие, потому что окружает меня опасностями, ослабляет и деморализует общество, от которого я вправе требовать помощи и содействия». Мы здесь в первый раз встречаем подобную систему социальных прав; по крайней мере мы не знаем, чтоб она до этого была где-нибудь ясно формулирована. Сущность этой системы можно выразить так: каждый индивидуум имеет абсолютное социальное право на то, чтобы каждый другой индивидуум поступал во всем, во всех отношениях безукоризненно, так, как должен, — кто отступает в чем-либо от того, что должен, тот нарушает мое социальное право, и я имею право требовать от законодательной власти устранения этого нарушения. Такой чудовищный принцип несравненно опаснее всякого вмешательства в индивидуальную свободу, потому что нет такого нарушения свободы, которое нельзя было бы им оправдать; он не оставляет за свободой никаких прав, исключая разве только права иметь мнения, но не выражать их, так как всякое выражение такого мнения, которое я признаю вредным, будет уже нарушением моего социального права. По этой доктрине все люди имеют взаимно интерес в нравственном, умственном и даже в физическом совершенствовании друг друга, и интерес этот определяется каждым по своему собственному критерию.
Я укажу еще на другое, весьма важное нарушение индивидуальной свободы, которое не есть только угроза, но уже с давних пор и в широких размерах существует на самом деле; это — законы о праздновании воскресного дня. Конечно, отдыхать один день в неделю от ежедневных своих занятий, насколько это дозволяют необходимые требования жизни, — конечно, это весьма хороший обычай, хотя он и не составляет религиозной обязанности ни для кого, кроме евреев. Но соблюдение этого обычая возможно для рабочих только при том условии, если его будут одинаково соблюдать и все другие рабочие, потому что если часть рабочих не приостановит свои работы, то и остальные будут вынуждены сделать то же самое; поэтому можно признать дозволительным и даже справедливым, чтобы закон в этом случае вмешался и гарантировал каждому возможность иметь отдых от ежедневных своих занятий, установив общее, для всех обязательное, прекращение работ в известный день недели. Такое вмешательство закона оправдывается тем, что каждый имеет непосредственный интерес, чтобы другие соблюдали празднование воскресного дня, потому что иначе лишается возможности иметь отдых от ежедневных своих работ; но это ни в каком случае не может служить оправданием для такого вмешательства со стороны закона, которое бы препятствовало индивидууму проводить этот день по своему усмотрению, заниматься тем, чем хочет, — а тем более не может это быть оправданием для такого вмешательства, которое бы ограничивало индивидуума в свободном выборе удовольствий. Правда, есть такие удовольствия, которые иначе невозможны, как при том условии, чтобы не прекращались некоторые работы, но мы должны принять во внимание, что в этом случае работа немногих служит для доставления удовольствия, а может быть, даже и полезного препровождения времени весьма многим, и исключение в пользу этой работы совершенно оправдывается, если присоединим к этому то условие, чтоб она не была принудительной, т.е. чтоб рабочий не был вынужден непременно работать в воскресный день, если сам того не желает. Рабочие нисколько не ошибаются в своем расчете, полагая, что если все будут работать в воскресные дни, тогда заработная плата за все семь дней работы не будет больше того, чем сколько они теперь получают за шесть дней; но если все работы будут прекращены и сделано будет только исключение в пользу небольшого числа работ, необходимых для того, чтобы сделать возможным для большого числа людей пользование известными удовольствиями, то такого рода работа в день общего отдыха и при таких условиях увеличит заработки и не поставит рабочего в необходимость непременно работать, в случае если бы он пожелал променять увеличение заработка на отдых. Наконец, в случае нужды можно было бы установить такой обычай, чтобы некоторые классы рабочих имели свой особый день отдыха, а не общий с другими. Итак, стеснения личной свободы избирать для себя тот или другой род удовольствия, какой кому нравится, не имеют в свое оправдание никакого основательного довода, и защитникам этих стеснений ничего более не остается, как опереться на основание, что есть такие удовольствия, которые осуждаются религией — но подобное притязание мотивировать закон религиозными соображениями заслуживает самого энергического протеста. «Deorum iujniae Diis curae». Для того, чтоб оправдать подобное притязание, надо доказать, что общество или его представители имеют поручение свыше мстить за оскорбления.
Всемогущего, хотя бы эти оскорбления и состояли в таких действиях, которые не приносят вреда никому из людей. Такое понимание человеческих отношений, что будто люди имеют обязанность заботиться о религиозности друг друга, — такое понимание и было основанием всех когда-либо бывших религиозных преследований, и если мы признаем это понимание правильным, то должны совершенно оправдать и сами преследования. Хотя то чувство, которое в настоящее время обнаруживается в постоянно повторяемых попытках прекратить движение по железным дорогам в воскресные дни, запереть музеи и т.п., — хотя это чувство и не имеет той жестокости, какой отличались чувства религиозных преследователей прежнего времени, но оно свидетельствует об умственном состоянии, в сущности, совершенно одинаковым, с тем, которое делало людей способными на религиозные преследования. Это чувство свидетельствует о существовании желания не дозволять другим делать то, чего не дозволяет моя религия, хотя бы по их религии это и было дозволительно. Оно свидетельствует о существовании той веры, что Бог не только гневится неблагочестивыми поступками неверующего, но гневится и на нас, если мы дозволяем беспрепятственно совершать эти неблагочестивые поступки.
Я не могу удержаться, чтобы не указать еще на один факт, который свидетельствует, как вообще мало ценится у нас свобода человека, а именно, на то явное воззвание к преследованию, каким обыкновенно разражается наша пресса, как только приходится ей завести речь о мормонизме. Многое есть что сказать об этом совершенно неожиданном и весьма назидательном факте, что в наш век газет, железных дорог и электрического телеграфа могли явиться новое откровение и даже целая религия, основанная на этом откровении, и что несмотря на всю очевидность обмана, несмотря на то, что сам возвеститель откровения не имел за собой никаких необыкновенных качеств, религия эта была уверована сотнями тысяч людей и легла в основание нового общества. Для нас важно в настоящем случае то, что эта религия, как и другие лучшие религии, также имеет своих мучеников — что ее основатель и пророк был убит за свое учение, — что многие его последователи погибли также насильственной смертью за свою веру, — что, наконец, все мормоны были изгнаны из той страны, где образовалась их религия; и многие из моих соотечественников не довольствуются даже тем, что мормонизм вынужден был искать убежища в отдаленной пустыне, а открыто объявляют, что хорошо было бы (только не совсем удобно) послать туда к ним экспедицию, чтобы заставить их сообразоваться с чужими мнениями. Многоженство, — вот тот пункт мормонской доктрины, который главным образом возбуждает против них антипатию, и эта антипатия столь сильна, что по отношению к ним забываются обыкновенные правила веротерпимости; мы миримся с многоженством у магометан, у индусов, у китайцев, но не можем помириться с многоженством у людей, которые говорят по-английски и считают себя христианами. Я не менее, чем кто-либо, осуждаю многоженство мормонов, и осуждаю его по многим причинам, а между прочим и на том основании, что это учреждение не только не опирается на принцип свободы, а напротив, прямо нарушает его: оно только еще более закрепляет те оковы, а в которых находится половина общества, и освобождает другую половину от таких обязанностей по отношению к первой, которые требуются взаимностью. Однако при этом не следует забывать, что хотя положение женщины в полигамическом браке нам и представляется весьма тяжелым, но тем не менее вступление в брак у мормонов, несмотря на полигамию, составляет со стороны женщины акт, не менее свободный, чем и при всяком другом каком-либо брачном институте. Как ни кажется это поразительным с первого взгляда, но если мы примем во внимание, что идеи и обычаи, общие во всем мире, воспитывают женщин в тех понятиях, что брак для них есть необходимость, тогда для нас делается понятным, что находится много таких женщин, которые предпочитают лучше быть одною из многих жен одного мужа, чем вовсе не быть женой. Мормоны не предъявляют ни малейшего притязания навязать кому-либо свои брачные отношения или вообще свои законы; в пользу враждебного к ним чувства тех, которые не разделяют их верований, они большие сделали даже уступки, чем каких вправе были от них требовать; они удалились из тех стран, для которых их доктрины были нетерпимы, и поселились на отдаленном углу земли, который они же первые и сделали обитаемым, — после всего этого есть ли какая возможность найти какое-нибудь основание для того, чтобы препятствовать им жить под такими законами, какие им нравятся, если только они ни на кого не нападают и не препятствуют своим членам выступать обратно из общины. Один из писателей нашего времени, отличающийся во многих отношениях замечательными достоинствами, предлагает предпринять против этой полигамической общины (так он выражается) не крестовый поход, а поход цивилизации, чтобы положить конец тому, что, по его понятиям, составляет понятный шаг на пути прогресса. Я согласен с тем, что мормонизм есть понятный шаг, но я не могу согласиться, чтобы какая-нибудь община имела право насильно заставлять другую общину цивилизоваться. Когда сами те, которые терпят от дурных законов, не просят ни чьей помощи, то в таком случае я не могу допустить возможности признать, чтобы люди, совершенно этому непричастные, имели какое-нибудь право вмешаться и требовать изменения существующего порядка вещей, которым довольны все те, кого он касается непосредственно, — и требовать на том только основании, что этот порядок их скандализирует. Заметим при этом, что те люди, от имени которых предъявляется притязание на подобное право, живут на расстоянии нескольких тысяч миль от того общества, которого порядки их скандализируют, что никакие их интересы непосредственно не замешаны в том, чтобы существовал в этом обществе тот или другой порядок, и что, наконец, они даже не имеют никаких непосредственных сношений с этим обществом. Они могут, если хотят, послать миссионеров проповедовать против скандализирующих их доктрин, — могут законными средствами (заставить молчать противную сторону не принадлежит к числу этих средств) противодействовать распространению подобных доктрин среди членов своего общества. Цивилизация одержала верх над варварством, когда варварство господствовало над всем миром: может ли после этого существовать сколько-нибудь основательное опасение, что варварство воскреснет вновь и завоюет цивилизацию. Чтоб цивилизации могла действительно угрожать опасность гибели от побежденного уже ее врага, она должна прежде дойти до такого нравственного расслабления, чтобы все ее присяжные жрецы и представители, и вообще все, ей причастные, не имели ни способности, ни желания постоять за нее. Если наша цивилизация действительно такова, то, в таком случае, чем скорее она рухнет, тем лучше, — ей в таком случае ничего более не остается, как скорее перейти от своего печального положения к положению еще более худшему, для того, чтобы скорее окончательно рухнуться и потом возродиться (как Западная Империя) с помощью энергических варваров.
Глава V
Применения
Необходимо, чтобы высказанные нами принципы сделались более общепринятым базисом при обсуждении частных вопросов, и только тогда можно ожидать сколько-нибудь состоятельного их применения в различных отраслях правительственной и нравственной сферы. Те немногие замечания, которые я намерен сделать в этой главе касательно некоторых частных вопросов, имеют целью, собственно, не развитие этих принципов до их последних выводов, а только несколько большее уяснение самих принципов. Я намерен представить, собственно говоря, не применения, а образчики применений, которые бы уясняли смысл и пределы обоих основных правил, составляющих сущность изложенной нами доктрины, и которые могли бы хотя до некоторой степени руководить суждением, когда оно колеблется, которое из двух правил применить к тому или другому частному случаю.
Припомним эти правила: 1) индивидуум не подлежит никакой ответственности перед обществом в тех своих действиях, которые не касаются ничьих интересов, кроме его собственных. Советовать, наставлять, убеждать, избегать сношений, когда признает это нужным для своего блага, — вот все, чем общество может в этом случае справедливо выразить свое неудовольствие или свое осуждение; 2) в тех действиях, которые вредны для интересов других людей, индивидуум подлежит ответственности и может быть справедливо подвергнут социальным или легальным карам, если общество признает это нужным.
Сделаем прежде всего одно замечание в пояснение того принципа, что только вред или вероятность вреда могут оправдывать вмешательство общества в действия индивидуума. Неправильно было бы выводить из этого принципа то заключение, что будто бы общество имеет всегда право вмешаться, когда только усматривает, что действия индивидуума вредны для других. Есть много таких случаев, когда индивидуум, преследуя совершенно законную цель, неизбежно, а следовательно, и законно причиняет вред или ущерб другим, или препятствует им достигнуть блага, на которое они имели основание надеяться. Подобные столкновения между интересами индивидуумов происходят часто от дурных общественных учреждений и часто бывают совершенно неизбежны, пока существуют эти учреждения; но есть также такие столкновения, которые едва ли можно избежать при каких бы то ни было учреждениях. Так это бывает в случае какого-нибудь конкурса или вообще соревнования, когда многие стремятся к достижению какого-нибудь предмета и предмет этот достанется наконец какому-нибудь одному из соревнователей, — когда получается выгода от потерь, от неуспеха и вообще от неудач других. Общепризнанно, что это не только не вредит, а напротив, даже полезно для интересов человечества, чтобы люди стремились к достижению своих целей, не останавливаясь перед такого рода последствиями, т.е. не останавливаясь перед тем, что достижение ими их целей сопряжено с вредом для других. Другими словами: общество не признает никакого права, ни легального, ни нравственного, за неуспевшим соревнователем на какое бы то ни было вознаграждение за подобного рода вред, и считает себя призванным вмешиваться только в тех случаях, когда для достижения успеха в соревновании прибегают к средствам, противным общему интересу, — к обману или насилию.
Торговля, как мы уже сказали, есть акт социальный. Индивидуум, продавая какой-нибудь предмет, совершает такой акт, который касается интересов других людей или интересов всего общества; следовательно, его действия в этом случае, согласно с высказанным нами принципом, подлежат юрисдикции общества, и на этом основании некогда признавалось обязанностью правительства определять цену товаров и регулировать их производство. Но теперь, после продолжительной борьбы, пришли наконец к тому сознанию, что как дешевизна, так и хорошее качество товаров достигаются всего лучше при том условии, когда и производителю, и продавцу предоставляется полная свобода, и если при этом покупатель имеет полную свободу приобретать то, что ему нужно, там, где он хочет. Вот в чем состоит так называемая доктрина свободной торговли. Эта доктрина основана на принципе, хотя не менее прочном, совершенно различном от принципа индивидуальной свободы. Подчинение торговли или производства каким-либо ограничениям есть, конечно, стеснение и, как всякое стеснение, оно есть зло потому уже, что оно есть стеснение; но в этом случае оно относится к таким действиям индивидуума, в которые общество имеет полное право вмешаться, и если его вмешательство заслуживает осуждения, то единственно потому только, что не приводило на самом деле к тем последствиям, каких хотели достигнуть. Принцип индивидуальной свободы, будучи совершенно непричастен к доктрине свободной торговли, равно непричастен и к большей части тех вопросов, которые возникают относительно пределов этой доктрины: как например, до какой степени может быть допущен контроль общества для предупреждения подделок, какого рода санитарные предосторожности и вообще какие меры могут быть справедливо сделаны обязательными для тех хозяев, у которых рабочие занимаются работами, опасными для здоровья. Вопрос о свободе имеет разве только то отношение к этим вопросам, что всегда лучше, caeteris paribus, предоставлять людям полную свободу, чем контролировать их; но тем не менее нельзя отрицать, что в принципе контроль в тех случаях совершенно законен. Впрочем есть и такие вопросы касательно вмешательства в торговые дела, которые в сущности суть вопросы о свободе, так например, закон Мэна, о котором мы уже упоминали, — запрещение ввозить опиум в Китай, — ограничения торговли ядами, одним словом, все те случаи, когда вмешательство имеет целью сделать невозможным или затруднительным приобретение индивидуумом какого-нибудь предмета. Подобного рода вмешательство может быть предметом возражения, но не потому, что нарушает свободу производителя или торговца, а потому что нарушает свободу покупателя.
Один из указанных мною примеров, торговля ядами, наводит нас на новый вопрос, а именно: до каких пределов может простираться так называемое полицейское вмешательство, до какой степени свобода может быть справедливо стесняема ради предупреждения преступлений или несчастных случаев. Предупреждать преступления составляет в такой же степени неоспоримую обязанность правительства, как и открывать преступления и наказывать их; но дело в том, что предупредительная деятельность правительства сопряжена с большей возможностью преступления, чем его карательная деятельность, так как едва ли можно указать на такой род поступков из числа законно принадлежащих к сфере индивидуальной свободы, в котором свобода не могла бы быть истолкована, и совершенно основательно, как облегчение совершать те или иные проступки. Но, тем не менее, если общественная власть, или даже частное лицо, усматривает, что кто-либо очевидно готовится совершить какое-нибудь преступление, то оно не только не обязано оставаться в бездействии, пока преступление не будет совершено, но и может вмешаться, чтобы предупредить его совершение. Если бы яды не поучались или не употреблялись ни для каких иных целей, кроме убийства, то в этом случае было бы совершенно справедливо запретить как производство их, так и продажу; но они нужны и для таких целей, которые не только совершенно невинны, но и в высшей степени полезны, и всякое стеснение в их производстве и продаже не может не относиться одинаково, как к дурному, так и к хорошему их употреблению. Повторяю еще раз, — общественная власть должна, конечно, принимать меры предосторожности против несчастных случаев. Если должностное, или даже частное лицо усмотрит, что кто-нибудь намеревается перейти через мост, через который нельзя пройти без опасности для жизни, и при этом не будет иметь времени предупредить о существовании этой опасности, то может схватить или попятить назад идущего, и это нисколько не будет нарушением индивидуальной свободы, так как свобода состоит в том, чтоб мне не препятствовали делать то, что я желаю, а я не имею желания свалиться с моста в реку. Но если угрожает только опасность, более или менее вероятная, а не гибель неизбежная, то в таком случае сам индивидуум есть единственный компетентный судья в том, следует или не следует ему подвергать себя опасности; в этом случае можно только предостеречь его о существующей опасности, но никак не более, и никто не имеет права воспрепятствовать ему подвергать себя опасности, если он этого хочет (разумеется, если только этот индивидуум — не дитя, не сумасшедший, не находится в таком состоянии возбуждения или рассеянности, которое несовместимо с полным обладанием умственными способностями). Применение этих соображений к вопросу о торговле ядами дает нам ключ для решения, какие способы регулировать эту торговлю будут противны и какие будут не противны принципу свободы. Такая мера предосторожности, например, чтобы на ядовитом веществе наклеивался ярлык с надписью, свидетельствующей о его ядовитых свойствах, не будет нарушением свободы, потому что покупатель не может желать не знать, что покупаемая им. вещь имеет ядовитые свойства. Но требование, чтобы ядовитые вещества продавались не иначе, как только лицам, которые предъявят удостоверение патентованного медика, что эти вещества им нужны, — такое требование сделает для индивидуума во многих случаях невозможным приобрести то, что ему может быть нужно для целей совершенно законных, и во всяком случае вовлечет его в излишние издержки. По моему мнению, существует только один способ затруднить приобретение ядовитых веществ для преступных целей, не подвергая при этом сколько-нибудь значительному нарушению свободу тех, которые пожелают их приобрести для целей законных. Этот способ состоит в том, что Бентам называет «preappointed evidence». Он обыкновенно употребляется при совершении контрактов. Так почти везде принято, и совершенно справедливо, чтобы закон для признания за контрактом полной обязательной силы требовал соблюдения некоторых формальностей, как например, подписи свидетелей и т.п.: требование это имеет ту цель, чтобы, на случай могущего возникнуть впоследствии спора, обеспечить доказательства, что контракт был действительно совершен и притом совершен при таких условиях, в которых не было ничего, что могло бы лишать его законной силы: таким образом полагаются большие препятствия к тому, чтобы могли существовать фальшивые контракты или чтобы совершались такие контракты, которые не могли бы быть совершены, если бы были известны те обстоятельства, при которых они совершались. Нет, по-видимому, никакого препятствия принять подобные же предосторожности и относительно торговли такими предметами, которые могут быть употреблены как орудие преступления. Можно было бы, например, установить такое правило, чтобы торгующие ядовитыми веществами подробно записывали, когда продан товар, имя и адрес покупщика, количество и качество проданного товара, — чтобы продавец каждый раз спрашивал покупщика, для какой надобности покупает он ядовитое вещество и записывал бы его ответ; в тех случаях, когда ядовитое вещество покупается не по рецепту медика, можно было бы требовать, чтобы при продаже присутствовало какое-нибудь третье лицо, которое могло бы засвидетельствовать личность покупателя, если бы потом возникло сомнение, не было ли купленное вещество употреблено для каких-нибудь преступных целей. Подобное правило не составило бы никакого существенного затруднения для приобретения ядовитых веществ, но весьма значительно затруднило бы только безнаказанное их употребление для каких-либо преступных целей.
Право, присущее обществу, охранять себя предупредительными мерами от преступлений, которые могут быть совершены против него, — право это необходимо влечет за собой некоторые ограничения того принципа, что дурные поступки индивидуума, непосредственно касающиеся только его самого, не должны подлежать ничьему вмешательству и никакой каре. Например, пьянство, говоря вообще, не есть такой предмет, в который закон имел бы право вмешиваться, но я считаю совершенно правильным, чтобы тот человек, который уже совершил какое-нибудь насилие в пьяном состоянии, был подвергнут особенным, до него только относящимся, легальным ограничениям по употреблению крепких напитков, чтоб он был признан подлежащим наказанию, если вновь напьется допьяна, или чтобы ему угрожало более сильное против обыкновенного наказание, если он опять совершит насилие в пьяном виде. Если уже человек знает по опыту, что в пьяном состоянии причиняет обыкновенно какой-нибудь вред другим людям, то уже тем самым, что напивается пьян, он совершает проступок. То же самое можно сказать и о праздности. Если человек не получает содержания за счет общества и если он не нарушает какого-нибудь принятого им на себя условия, то праздность его не может быть предметом легальной кары; но если индивидуум, вследствие праздности или вследствие какой-нибудь другой причины, которые совершенно зависят от него самого, делается неспособен к исполнению лежащих на нем легальных обязанностей, как например, содержать своих детей, то не будет ничего несправедливого насильно сделать его способным исполнять эти обязанности, дать ему, например, какую-нибудь обязательную работу, если нет на этого другого, лучшего средства.
Кроме того, есть такие поступки, которые непосредственно вредны только для тех, кто их совершает, и следовательно, не должны подлежать легальному запрещению, но когда совершаются публично, становятся нарушением добрых нравов и, входя таким образом в категорию проступков, обидных для других людей, могут справедливо подлежать запрещению. К такого рода поступкам принадлежат нарушения приличия. Я не остановлюсь на этом, тем более что это касается предмета моего трактата только косвенным образом, — замечу только, что много таких поступков, которые сами по себе не предосудительны и не считаются предосудительными, но становятся проступками, если совершаются публично.
Нам предстоит теперь рассмотреть вопрос совершенно другого рода и найти для него такое решение, которое было бы согласно с высказанными нами принципами. Должна ли существовать такая же свобода советовать или поощрять совершение поступков, как и совершать их. когда эти поступки предосудительны, но общество не принимает против них никаких предупредительных или карательных мер единственно на том только основании, что непосредственно истекающее от них зло падает всей своей тяжестью исключительно на тех, кто их совершает? Решение этого вопроса представляет некоторые затруднения. Советовать другому совершать известный поступок — не совсем одно и то же, что самому его совершать. Давать советы или поощрять к совершению чего-нибудь есть акт социальный и потому, как и вообще все поступки индивидуума, касающиеся других людей, может справедливо подлежать общественному контролю. Так представляется с первого взгляда; при более же внимательном рассмотрении вопроса оказывается, что если рассматриваемый нами случай и не совсем точно подходит под определение индивидуальной свободы, но, тем не менее, к нему применимы те же основания, на которых утверждается, принцип индивидуальной свободы. Если индивидууму должна быть предоставлена свобода действовать по своему усмотрению, на свой собственный страх, во всем, что касается только его самого, то одинаково должна быть ему предоставлена и свобода советоваться с другими, обмениваться мнениями, сообщать другим свои мысли и воспринимать мысли от других. Что дозволительно делать, то должно быть дозволительно и советовать. Вопрос сомнителен только в том случае, когда советодатель извлекает какую-нибудь личную выгоду из своих советов, когда подстрекательство к совершению поступков, осуждаемых обществом и государством, становится ремеслом, с помощью которого снискивают себе средства к существованию или вообще добывают деньги. В этом случае вопрос усложняется; тут, очевидно, привходит новый элемент, а именно, существование такого класса людей, которых интересы противоположны тому, что признается за общественное благо, и которые самые средства свои к существованию черпают из противодействия этому благу. Должно ли быть в этом случае допущено вмешательство или нет? Любодеяние, например, или игра должны быть терпимы, но сводничество или содержание игорного дома принадлежат ли также к таким действиям, в которых должна быть предоставлена индивидууму полная свобода? Случай этот принадлежит к числу тех, которые лежат как раз на меже между этими принципами, и с первого взгляда затруднительно определить, который из этих принципов должен быть к нему применен. Есть аргументы и в пользу того, и в пользу другого. Невмешательство имеет на своей стороне тот аргумент, что такое действие, которое признается дозволительным, не может сделаться преступным вследствие только того, что становится обыкновенным занятием, обыкновенным препровождением времени или средством к существованию; одно из двух: или это действие дозволительно, или оно недозволительно, но подобные ограничения не могут быть допущены; если изложенные выше принципы свободы истинны, то общество не имеет никакого права, как общество, брать на себя решение, вредно или нет такое действие, которое касается только индивидуума, и оно может в этом случае действовать только посредством убеждения, но никак не иначе, и как одним дозволительно убеждать, так другим дозволительно разубеждать. В возражение этому аргументу может быть приведено в пользу другого принципа то основание, что хотя общество, или государство, и не вправе брать на себя решение, хорошо или вредно какое-нибудь действие, касающееся только интересов индивидуума, но если оно признает это действие вредным, то совершенно вправе, по крайней мере, считать вопрос о его вредности или невредности вопросом спорным, — и в таком случае не будет ничего несправедливого со стороны общества, или государства, если оно будет стремиться уничтожить влияние тех подстрекателей к этому действию, которые не могут обсуждать его беспристрастно, так как имеют непосредственный личный интерес быть на стороне того, что государство признает вредным, и явно руководятся совершенно посторонними личными целями. В подкрепление этого довода могут сделать еще то замечание, что тут не будет никакой утраты, никакой жертвы каким-либо благом, если люди освободятся, насколько это возможно, от влияния таких личностей, которые способны поддерживать в других те или другие наклонности единственно из-за своих только чисто эгоистических целей, и если люди, глупо или умно, но во всяком случае сами, по своему собственному усмотрению, независимо от подобных влияний, будут решать, что им делать или не делать. Таким образом, — могут сказать сторонники этого мнения, — хотя постановления касательно азартных игр и не могут быть оправданы в принципе, хотя бесспорно, что всем должна быть предоставлена полная свобода играть у себя дома, или в домах своих знакомых, или наконец, в сборных местах, устраиваемых по подписке, куда имеют право входить только одни члены и их гости, но тем не менее публичные игорные дома допущены быть не могут. Совершенно справедливо, что никакое запрещение не может прекратить азартных игр, и так бы тиранически не распоряжалась полиция, игорные дома всегда будут существовать под теми или другими предлогами; но вследствие запретительных мер они могут быть вынуждены соблюдать до некоторой степени тайну, так что их будут знать только те, которые именно ищут игры, и общество должно совершено довольствоваться достижением такого результата. Эти аргументы имеют значительную силу, но я не решаюсь высказать решительное мнение, достаточны ли они для оправдания такой нравственной аномалии, что пособник подвергается наказанию, тогда как главный виновник признается (и признается справедливо) не подлежащим никакому ответу, — сводник или содержатель игорного дома подвергаются штрафу или тюрьме, тогда как сам любодей или сам игрок не подлежат никакой ответственности. Еще более недостаточны подобного рода аргументы для оправдания вмешательства в обыкновенные операции купли и продажи. Едва ли найдется такой предмет торговли, которого употребление не могло бы быть доведено до излишества, и продавцы всегда имеют интерес в том, чтобы поощрять это излишество, но на этом нельзя основывать никакого аргумента, в пользу хотя бы например закона Мэна, потому что хотя класс торговцев крепкими напитками и заинтересован в невоздержанном их употреблении, но тем не менее он необходим, так как если бы его не было, то вовсе прекратилось бы и всякое употребление крепких напитков. Однако то обстоятельство, что эти торговцы сильно заинтересованы в поощрении невоздержания, составляет действительное зло, и этим оправдывается то вмешательство со стороны государства, что оно налагает на торговлю крепкими напитками некоторые ограничения и требует гарантий, если бы этого оправдания не было, то подобное вмешательство было бы нарушением законной свободы.
Тут возникает еще такой вопрос: должно ли государство косвенным образом противодействовать тому, что хотя оно и дозволяет, но тем не менее считает противным благу самого действующего; так например, должно ли оно принимать меры к уменьшению пьянства, поднимая для этого цену на вино или затрудняя приобретение вина посредством ограничения мест продажи крепких напитков. Этот вопрос, как и большая часть практических вопросов, не допускает прямого, безусловного ответа. Налог на крепкие напитки с целью затруднить их приобретение есть такая мера, которая отличается от совершенного запрещения употребления крепких напитков только степенью, а не принципом, если мы оправдаем совершенное запрещение. Всякое возвышение цены на какой-либо предмет торговли есть запрещение употреблять этот предмет тем, которые не имеют средств платить за него увеличенную цену, а для тех, которые имеют средства заплатить, оно есть кара за удовлетворение потребности употреблять этот предмет; следовательно, подобная мера совершенно противоречит тому принципу, что избирать для себя тот или другой род удовольствия, расходовать свои денежные средства тем или другим способом, исполнив все свои легальные и нравственные обязанности к государству и к другим индивидуумам, что все это составляет сферу индивидуальной свободы и должно быть предоставлено личному усмотрению каждого индивидуума. С первого взгляда может показаться, на основании приведенных нами соображений, что мы должны осудить и обложение крепких напитков налогом с целью получения дохода. Но при этом следует принять во внимание, что налоги с фискальной целью абсолютно необходимы, что в большей части государств значительная часть доходов необходимо должна быть взимаема косвенными налогами, и следовательно, государства не могут обойтись без обложения налогами некоторых предметов потребления, т.е. не могут обойтись без того, чтобы не запрещать некоторым лицам употребление известных продуктов и не налагать на других кару за их употребление. Конечно, государство обязано при установлении налогов заботиться о том, чтобы налоги падали на такие предметы потребления, без которых потребители легче всего могут обойтись, и, a forteriori, избирать для налогов преимущественно те предметы, которые положительно вредны, когда употребляются в неумеренном количестве. Вот почему налог на крепкие напитки не только не подлежит осуждению, а напротив, заслуживает одобрения, даже и в том случае, когда он высок и приносит весьма большой доход, предполагая при этом, конечно, что государство имеет действительную надобность в этом доходе.
Что же касается до вопроса о том, должна ли продажа крепких напитков быть предметом более или менее исключительной привилегии, то ответ на это должен быть различен, смотря по тому, с какой целью установляется привилегия. Бесспорно, что полицейский надзор необходим в публичных местах, а тем более он необходим в местах продажи крепких напитков, где проступки против общества совершаются всего чаще. Вот на каком основании могут быть оправданы подобные меры, как предоставление права торговать (по крайней мере, торговать распивочно) крепкими напитками только таким людям, которые известны своим хорошим поведением или предоставляют какие-либо в этом гарантии, — определение часов для открытия и закрытия питейных заведений, — лишение права торговли в случае, если бы хозяин заведения оказался виновным в неоднократно происходивших в его заведении беспорядках, нарушающих общественное спокойствие, или если бы его заведение сделалось местом притона для людей злоумышляющих и подготовляющих преступления. Я не думаю, чтобы по принципу можно было оправдать еще какие-либо другие меры, которые бы еще более ограничивали торговлю крепкими напитками. Такая мера, например, как ограничение числа кабаков с целью уменьшить соблазн для людей, склонных к пьянству, не только представляет то неудобство, что в этом случае ради небольшого числа индивидуумов подвергаются стеснению все члены общества, но и по своему характеру она соответствует только такому состоянию общества, когда рабочие классы трактуются как дети или как дикие и когда признается необходимым держать их под так называемым отеческим управлением, которое бы воспитывало их для свободы. Но не такими принципами должно руководствоваться управление рабочих классов в свободной стране, и никто, знающий настоящую цену свободы, не одобрит такого принципа, исключая разве только в том случае, когда уже истощены все усилия воспитывать рабочих к свободе и управлять ими как свободными, и оказалось окончательно невозможным управлять ими иначе, как управляют детьми. Одна уже прямая постановка этого вопроса обнаруживает до очевидности всю нелепость такого предположения, чтобы, при рассмотрении его, мы должны были принимать во внимание такие случаи, когда все усилия управлять рабочими, как свободными людьми, оказались тщетными. Не какой-либо другой причине, а единственно тому духу противоречия, который составляет характеристическую особенность наших учреждений, обязаны мы тем, что у нас нередко допускаются такие стеснения индивидуальной свободы, которые могут быть оправданы только при деспотическом или так называемом отеческом управлении, между тем как в то же время присущий нашим учреждениям дух общественной свободы не допускает эти стеснения доходить в действительной жизни до такой степени, чтобы они на самом деле могли иметь значение, как меры для нравственного воспитания людей.
Признание за индивидуумом свободы во всем, что касается его самого, необходимо ведет (как мы это высказали еще на первых страницах настоящего исследования) к признанию свободы для какого бы то ни было числа индивидуумов входить между собой в соглашение и действовать на основании этого соглашения во всем, что касается только их самих и кроме их никого другого не касается. Этот вопрос не представлял бы никаких затруднений, если бы воля лиц, раз вошедших в соглашение, оставалась навсегда неизменной; но так как она может изменяться, то часто бывает необходимо, чтобы люди, входя между собой в соглашение даже по таким предметам, которые касаются только их самих, принимали бы на себя некоторые обязательства по отношению друг к другу, и если уже раз индивидуум принял на себя обязательство по отношению к другим индивидуумам, то необходимо должно быть признано за общее правило, что он обязан выполнить это обязательство. Но едва ли найдется такая страна, которой законы не допускали бы исключений из этого общего правила. Не только считается необязательным выполнять такие обязательства, которыми нарушаются интересы третьей стороны, но и признается нередко достаточным основанием к освобождению индивидуума от принятого им на себя обязательства, если оно для него вредно. Так например, у нас и в большей части других цивилизованных государств признается недействительным обязательство, по которому человек продает себя в рабство или соглашается на подобную продажу; силу такого рода обязательств равно отрицают и закон, и общее мнение. Почему в этом случае власть индивидуума над самим собой подвергается ограничению, очевидно само по себе. Действия индивидуума, касающиеся только его самого, признаются не подлежащими ничьему вмешательству единственно из уважения к его индивидуальной свободе; свободный выбор индивидуума принимается за очевидное свидетельство, что избранное им для него желательно, или по крайней мере сносно, и его личное благо признается наилучше для него достижимым при том условии, если ему предоставлена будет свобода стремиться к этому благу теми путями, какие признает за лучшие. Но продажа себя в рабство есть отречение от своей свободы; это — такой акт свободной воли индивидуума, которым он навсегда отрекается от пользования своей свободой, и, следовательно, совершая этот акт, он сам уничтожает то основание, которым устанавливается признание за ним права устраивать свою жизнь по своему усмотрению. С минуты совершения этого акта он перестает быть свободным и ставит себя в такое положение, которое не допускает даже возможности предположить, чтобы он мог оставаться в нем по своей воле. Принцип свободы нисколько не предполагает признания за индивидуумом свободы быть несвободным. Признать за индивидуумом право отречься от своей свободы не значит признавать его свободным. Эти основания, которых сила столь ярко обнаруживается в рассматриваемом нами случае, имеют очевидно более широкую применимость, и не только по отношению к этому крайнему случаю, но они неизбежно встречают повсюду пределы, далее которых не может идти их применение: необходимые требования жизни на каждом шагу заставляют нас не отрекаться, конечно, от нашей свободы, но соглашаться на то или другое ее ограничение. Тот же самый принцип, который требует для индивидуума полной свободы во всем, что касается его самого, требует также, чтобы индивидуумы, вступившие друг с другом в какие-нибудь обязательства по предметам, не касаются третьей стороны, были всегда свободны снять друг с друга эти обязательства, и даже едва ли есть такие обязательства, кроме только денежных и вообще имущественных, по отношению к которым можно было бы отрицать свободу выхода для каждой из обязавшихся сторон. Барон Вильгельм Гумбольдт в своем превосходном сочинении, о котором мы уже упоминали, высказывает убеждение, что обязательства, имеющие предметом личные отношения или личные услуги, ни в каком случае не должны иметь легальной обязательности иначе, как на определенный срок, и что самое важное из этих обязательств, брак, представляя ту особенность, что сама цель его совершенно исчезает, как только с ней не гармонируют чувства обеих сторон, ничего более не требует для того, чтобы быть признанным не существующим, как только чтобы одна из сторон выразила свою волю, что он не существует. Это предмет слишком важный и слишком сложный, чтобы о нем можно было говорить мимоходом, и я коснусь его не более, как сколько это необходимо для разъяснения занимающего нас вопроса. Если бы сжатостью и общностью своего сочинения барон Гумбольдт не был вынужден ограничиться одним только указанием на свое заключение по этому предмету, не входя при этом в обсуждение посылок, то он без сомнения признал бы, что для полного обсуждения этого предмета недостаточно тех оснований, которые он выставил. Когда человек обещаниями или поступками дает основание и поощряет к тому, чтобы другой человек положился на то, что он будет постоянно поступать известным образом, основал бы на этом свои надежды, свои расчеты и согласно с этим принял бы какие-нибудь решения, которыми в большей или меньшей степени условливается дальнейшая его жизнь, то в таком случае для этого человека возникает целый ряд нравственных обязанностей, которыми он может, конечно, пренебречь, но которые не признать он не может. И если, кроме того, отношения между двумя состоящими в обязательстве сторонами породили последствия для других, если они поставили какое-нибудь третье лицо в особенное положение, или как это бывает в браке, дали существование третьему лицу, то по отношению к этому третьему лицу на обе состоящие в обязательстве стороны падают известные нравственные обязанности, и выполнение этих обязанностей, или во всяком случае способ их выполнения, в значительной степени условливается продолжением или прекращением того обязательства, из которого они истекли. Из этого вовсе не следует, что я никак не могу согласиться, чтобы их обязанности могли простираться до такой степени, чтобы требовали выполнения во что бы то ни стало породившего их обязательства, хотя бы даже и ценой счастья одной из состоящих в обязательстве сторон, но если они составляют необходимый элемент в вопросе, и если даже, как утверждает Гумбольдт, они и не должны иметь никакого значения для легальной свободы выйти из обязательства (я также держусь того мнения, что они не должны иметь в этом отношении большого значения), то во всяком случае они должны иметь большое значение для нравственной свободы. Человек обязан принять во внимание все эти обязательства, решаясь на такой шаг, который может касаться важных интересов других людей, и если он не воздает этим интересам должного, то нравственно ответственен за сделанное им зло. Я остановился за этих замечаниях единственно только для лучшего разъяснения общего принципа свободы, а не потому, что считал их необходимым для разъяснения этого частного вопроса, который, напротив, обыкновенно рассматривается в том смысле, что как будто интересы детей суть все, а интересы взрослых — ничто.
Я уже имел случай выше заметить, что вследствие отсутствия общепринятых общих принципов свобода нередко признается там, где ее не должно быть, и наоборот, нередко отрицается там, где должна быть признана, и что чувство свободы в новом европейском мире обнаруживается с наибольшей силой именно в том случае, где оно, по моему мнению, совершенно не уместно. Человек должен иметь полную свободу поступать как хочет во всем, что касается только его самого; но нельзя признать за ним свободу поступать по своему усмотрению в том, что касается других, под тем предлогом, что дела других суть его собственные дела. Государство должно уважать свободу каждого индивидуума во всем, что касается исключительно самого этого индивидуума, но при этом оно обязано иметь самый бдительный надзор над тем, как индивидуум пользуется властью, которой оно дозволяет ему иметь над другими людьми. Семейные отношения имеют столь непосредственное влияние на счастье людей, что едва ли не должны мы признать за ними большее даже значение, чем за всеми прочими вместе взятыми случаями, когда индивидуумы имеют власть друг над другом, а между тем мы находим в действительной жизни почти совершенное отсутствие всякого контроля над этими отношениями. Мы не находим нужным распространяться касательно почти деспотической власти мужей над женами, так как защитники этой несправедливой власти и не пытаются даже оправдать ее перед требованием свободы, и притом для устранения этого зла ничего более не требуется, как только признать за женами равные с мужьями права и сравнить их перед законом со всеми другими людьми. Относительно же отношений к детям мы встречаем столь превратные понятия о свободе, что эти понятия составляют действительное препятствие для исполнения государством его обязанностей. Можно подумать, что и в самом деле дети буквально составляют часть своего отца, а не только метафорически, — до такой степени враждебно люди смотрят на малейшее вмешательство закона в неограниченную и исключительную власть родителей над детьми; они относятся к такого рода вмешательству, можно сказать, даже враждебнее, чем к какому бы то ни было вмешательству в то, что касается только их самих: они вообще ценят власть гораздо выше, чем свободу. Возьмем для примера хоть воспитание. Не составляет ли это такую аксиому, которая почти очевидна сама по себе, что государство обязано требовать и даже принуждать, чтобы все человеческие существа, родящиеся его гражданами, получали хотя некоторое воспитание? А между тем, много ли найдется людей, которые бы решились открыто признавать и отстаивать эту истину.
Никто, конечно, не станет отрицать, что это составляет одну из самых священных обязанностей для родителей (при существующих законах и обычаях правильнее сказать: для отца) дать произведенному им на свет существу такое воспитание, которое бы делало его способным выполнить предстоящие требования жизни как по отношению к самому себе, так и по отношению к другим. Все единодушно признают, что отцы обязаны воспитывать своих детей, но при этом с не меньшим единодушием восстают против всякой мысли о каких-либо принудительных к тому мерах. Не только не принуждают родителей делать какие-либо усилия для воспитания своих детей, но предоставляют даже совершенно их произволу пользоваться или не пользоваться и теми средствами к воспитанию, которые они могут иметь совершенно gratis. До сих пор еще люди не признают той истины, что произвести на свет человека, не имея в виду средств не только вскормить, но и воспитать и образовать его, есть нравственное преступление как по отношению к этому человеку, так и по отношению к обществу, — они до сих пор не признают, что если родители не выполняют своих обязанностей к детям, то государство должно озаботиться тем, чтобы эти обязанности были ими выполнены, насколько это возможно.
Если бы принцип общего обязательного воспитания был признан, то это положило бы конец всем затруднениям касательно того, чему должно учить государство и как должно оно учить. Эти затруднения служат теперь полем битвы, на котором меряют свои силы разные секты и партии, тратя таким образом на споры о воспитании и время, и труд, которые могли бы быть употреблены на самое воспитание. Если бы правительство признало своей обязанностью требовать, чтобы все дети получали хорошее воспитание, то этим самым оно избавило бы себя от всяких забот о доставлении воспитания. Но могло бы тогда предоставлять родителям полную свободу воспитывать своих детей, где и как хотят, и должно было бы только помогать недостаточным людям нести издержки на воспитание, или же, смотря по обстоятельствам, брать эти издержки на себя. Те совершенно основательные возражения, которые обыкновенно делаются против государственного вмешательства в дело воспитания, относятся не к обязанности воспитания, а к тому, когда государство берет воспитание непосредственно на самого себя. Но казенное воспитание и обязательное воспитание, — это две вещи, совершенно различные. Я не менее, чем кто-либо, восстаю против той системы, которая хочет, чтобы все воспитание или большая часть воспитания народа было в руках государства. Все, что мы сказали об индивидуальности, о разнообразии характеров, мнений, образов жизни, все это с равной силой относится и к разнообразию в воспитании. Общее казенное воспитание ведет к тому, чтобы сделать всех людей похожими друг на друга, сформировать всех на один образец, и именно на тот, который нравится господствующей власти, и все равно, будет ли это власть монарха, духовенства, аристократии, или большинства существующего поколения, во всяком случае, чем она могущественнее, тем с большим деспотизмом властвует она над умами и естественным образом тяготеет к тому, чтобы подчинить этому деспотизму и самое тело. Если и можно допустить такое воспитание, которое бы давалось и контролировалось самим государством, то разве только как практическое применение одного из возможных способов воспитания, как такое применение, которое бы служило для других способом воспитания примером и стимулом. Конечно, когда общество находится вообще в таком состоянии, что не может или не желает само заботиться о воспитании, тогда правительственная власть, имея перед собой два великих зла, должно выбрать меньшее из них и взять на себя устройство школ и университетов, как оно берет иногда на себя выполнение некоторых больших промышленных предприятий, которые должны были бы быть делом частной предприимчивости, но которые частная предприимчивость оказывается несостоятельной выполнить. Заметим вообще, что там, где существует достаточное число людей, способных заниматься делом воспитания под непосредственным руководством правительства, там эти же самые люди были бы способны заниматься и охотно занимались бы своим делом совершенно свободно, без всякого правительственного вмешательства, если бы только закон, устанавливая обязательное воспитание и вспоможение тем, которые не в состоянии нести на себе издержки по воспитанию, обеспечивал бы им таким образом вознаграждение за их труд.
При существовании обязательного воспитания вся воспитательная деятельность правительства могла бы ограничиться только публичной экзаменовкой всех детей, начиная с самого раннего возраста. Мог бы быть установлен возраст, в который каждый ребенок (одинаково как мальчик, так и девочка) должны были бы подвергаться экзамену для удостоверения, умеют ли они читать. Если бы ребенок оказался не умеющим читать и отец не представил бы достаточных оснований для оправдания этого незнания, то в таком случае можно было бы налагать на отца небольшой штраф, заставляя его, если это необходимо, уплачивать штраф работой и помещать ребенка в школу на его счет. Подобные экзамены могли бы возобновляться ежегодно, постепенно увеличивая количество требуемого знания, и таким образом можно было бы достигнуть того, что действительно сделался бы обязательным для всех и поддерживался во всех известный minimum знания. Кроме этих экзаменов по обязательному для всех минимуму, могли бы быть установлены добровольные экзамены по всем предметам знания и могли бы быть желающим выдаваемы удостоверения в степени приобретенных ими познаний. Чтобы подобные меры не обратились в руках государства в орудие для управления мнениями людей, требования экзаменов (кроме чисто элементарных частей знания, как например, языков и их употребления) можно было бы ограничить знанием исключительно только одних фактов и положительных наук. Что же касается до религии, политики и других спорных предметов, то экзамены по этим предметам, оставляя в стороне вопросы об истине или ложности того или другого мнения, могли бы ограничиваться только одной фактической стороной, что такие-то писатели, школы, церкви держались по известному вопросу такого-то мнения, на тех-то основаниях. Поколение, воспитанное по этой схеме, было бы относительно всех спорных истин не в худшем положении, чем в каком люди находятся теперь; и тогда, как теперь, одни становились бы православными, другие иноверцами, и государство только заботилось бы о том, чтобы как те, так и другие, безразлично имели известную степень познаний. Нет никакого препятствия к тому, чтобы обучали и религии, по желанию родителей, в тех же самых школах, в которых обучали бы другим предметам, всякая попытка со стороны государства дать то или другое направление мнениям своих граждан по каким-либо спорным вопросам есть, конечно, зло, но в этом нет никакого зла, чтоб государство производило проверку и удостоверяло, что такое-то лицо имеет известные познания, делающие его в большей или меньшей степени способным иметь свое суждение о данном предмете. Если изучающий философию хочет иметь удостоверение, что он знает и систему Локка, и систему Канта, то экзаменатор должен только удостовериться, действительно ли он знает эти предметы; но до него вовсе не касается, которой из этих систем держится экзаменующийся, или не держится ни одной из них. Я не вижу никакого основательного возражения, почему бы атеист не мог быть экзаменуем, каким образом доказывается истинность христианского учения, не требуя от него при этом, чтобы он исповедовал христианскую веру. По моему мнению экзамен из высших отраслей знания должен быть не обязателен. Весьма опасно было бы предоставить правительству власть не допускать до какой-то профессии, хотя бы даже до профессии учителя, под предлогом недостатка требующихся для этого качеств, и я совершенно разделяю мнение Вильгельма Гумбольдта, что ученые степени и вообще всякого рода дипломы, свидетельствующие о познаниях по какой-либо науке или профессии, должны быть выдаваемы без препятствия всем, что только пожелает экзаменоваться и выдержит экзамен, но дипломы эти не должны давать никаких преимуществ перед соревнователями по профессии — они должны иметь только то знание, какое им дает общественное мнение.
Общераспространенные неправильные понятия о свободе препятствуют признанию нравственных обязанностей со стороны родителей, а в некоторых случаях и узаконению этих обязанностей не только в одном деле воспитания. Произвести на свет человеческое существо, это есть одно из тех действий, которое влечет за собой наибольшую ответственность. Взять на себя такую ответственность — произвести на свет человеческое существо и не обеспечить ему по крайней мере тех общих условий, какие необходимы, чтобы сделать для него возможным такое существование, которое могло бы для него сколько-нибудь желательно, — дать жизнь человеку, не заботясь о том, не будет ли эта жизнь для него источником одних только страданий, есть преступление против этого человека. В такой стране, которая и без того уже имеет чрезмерное население, или которой грозит излишек населения, рождение большого количества детей влечет за собой понижение вознаграждения за труд и, следовательно, причиняет вред всем тем, которые живут трудом. Законы, запрещающие во многих странах Европы вступать в брак тем людям, которые не представят доказательства, что имеют средства, чем содержать семью, — такие законы нисколько не переступают за пределы власти, справедливо признаваемой за государством. Достигают ли эти законы своей цели или не достигают (что совершенно зависит от разных местных условий), во всяком случае, несправедливо было бы их упрекать в нарушении свободы. Государство имеет целью с помощью этих законов воспрепятствовать совершению поступка, столь дурного и столь вредного для других, что если он и не признается подлежащим легальной каре, то тем не менее заслуживает не только порицания, но и самого сильного осуждения со стороны общества. Но, несмотря на это, общераспространенные идеи о свободе, которые так легко мирятся с действительными нарушениями индивидуальной свободы в предметах, касающихся только самих индивидуумов, восстают против всякого стеснения индивидуума по удовлетворению таких наклонностей, которых удовлетворение обрекает человека или даже нескольких человек на жизнь, полную бедствий и страданий, и вместе с тем через это причиняет зло и другим людям, которым приходится быть с этими несчастными в близких сношениях. Если бы мы положились на то странное уважение и не менее странное неуважение, какое люди оказывают свободе, то должны были бы признать, что индивидуум, имеет право делать вред другим и не имеет право делать того, что ему нравится и что никому не вредит.
Я намерен закончить мое исследование рядом вопросов касательно такого правительственного вмешательства, которое строго говоря, не входит в предмет настоящего исследования, но тем не менее находится с ним в тесной связи. Я намерен говорить о тех случаях, в которых доводы против правительственного вмешательства опираются не на принцип свободы, где дело идет не о стеснении действий индивидуума, а о том, чтобы помогать его действиям. Такой вопрос возникает о том: должно ли правительство в некоторых случаях само что-либо делать или помогать к сделанию чего-либо, что полезно для индивидуумов, или же должно воздерживаться от всякого подобного вмешательства и предоставлять индивидуумов их собственным силам, чтобы они сами достигали желаемого, действуя индивидуально или сообща, в форме какой-либо ассоциации.
Против этого правительственного вмешательства, не заключающего в себе нарушения свободы, могут быть сделаны такого рода возражения.
Во-первых, индивидуумы всегда лучше сделают, чем правительство, всякое дело, которое до них касается. Говоря вообще никто так не способен управлять каким-либо делом, указать, как и кем должно быть оно сделано, как те, которые лично заинтересованы в этом деле. Этот принцип заключает в себе осуждение вмешательства законов и администрации в обыкновенные промышленные операции. Такое вмешательство было некогда явлением весьма обыкновенным. Впрочем, эта сторона вопроса удовлетворительно разобрана экономистами и не представляет никакой особенности по отношению к занимающему нас предмету.
Второе возражение гораздо ближе касается нашего предмета. Есть много таких дел, к исполнению которых частные лица оказываются, обыкновенно, менее способными, чем правительственные чиновники, но тем не менее желательно, чтобы эти дела исполнялись частными лицами, а не правительством, — желательно потому, что предоставление их частной деятельности служит могущественным средством к умственному воспитанию индивидуумов и развитию их способностей, к упражнению их способности суждения, к ближайшему их ознакомлению с теми или другими предметами, до них касающимися. Вот в чем заключается не единственный, конечно, но главный довод в пользу присяжных (это замечание не относится, разумеется, до политических дел), в пользу свободных местных и муниципальных учреждений, в пользу ведения больших промышленных и филантропических предприятий посредством свободных ассоциаций. Очевидно, что тут идет дело, собственно, не о свободе, а о развитии, и что все это имеет со свободой только косвенную связь. Здесь не место распространяться о том, что предоставление этих дел частной деятельности, действительно, имеет великое значение для народного воспитания, что оно, действительно, воспитывает гражданина, составляет практическую сторону политического воспитания свободного народа, выводит индивидуума из узкого круга личных и семейных стремлений и вводит его в сферу общих интересов, приучает его к введению общих дел, делает способным действовать не по эгоистическим только побуждениям, направляет его деятельность к таким целям, которые соединяют, а не разъединяют людей. Там, где индивидуумы находятся в условиях, препятствующих развитию в них этих качеств, там свободные политические учреждения не могут действовать надлежащим образом и не могут долго сохраняться, как мы видим этому много примеров в тех странах, где политическая свобода не имеет твердого базиса в гражданской свободе. Заведование местных дел самими местностями, ведение больших промышленных предприятий посредством свободного соединения индивидуальных сил, все это имеет на своей стороне все те преимущества вообще индивидуальному развитию и разнообразию способов действия. Правительственная деятельность всегда во всем и повсюду имеет наклонность к однообразию. Напротив, деятельность индивидуальная и посредством свободных ассоциаций всегда отличается наклонностью к бесконечному разнообразию. Все, что в этом отношении государство может делать полезного, это — быть, так сказать, центральным складочным местом, откуда бы все могли черпать то, что уже изведано опытом других людей. Не препятствовать своим гражданам производить новые опыты, а, напротив, заботиться о том, чтобы каждый желающий произвести новый опыт, мог воспользоваться всеми по этому предмету опытами других людей — вот в чем состоит обязанность государства.
Третий и самый сильный довод в пользу ограничения правительственного вмешательства заключается в том, что всегда в высшей степени вредно увеличивать правительственную власть без крайней к тому необходимости. Всякое расширение правительственной деятельности имеет то последствие, что усиливает правительственное влияние на индивидуумов, увеличивает число людей, возлагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства. Если бы дороги, банки, страхование, большие акционерные предприятия, университеты, благотворительные учреждения, если бы все это было делом правительственным, и вдобавок к этому если бы муниципальные корпорации и местные учреждения, со всеми теперешними их атрибутами, были простыми органами центральной администрации, которые заведовались бы чиновниками по назначению и на жаловании от правительства, то при таких условиях свобода исчезла бы, и вообще свободные учреждения, как у нас, в Англии, так и во всякой стране, могли бы существовать только номинально, — и зло от такого порядка вещей было бы тем более, чем с большим искусством и с большим знанием дела была бы устроена административная машина, и чем способнее были бы те руки и те головы, с помощью которых она работала. В последнее время в Англии предлагали ввести такую меру, чтобы все должности по гражданской службе, занимаемые теперь по назначению от правительства, замещались по конкурсу; таким образом полагали приобрести для гражданской службы самых способных и образованных людей. Многое было сказано и написано по этому случаю и за, и против подобной меры. Один из главных аргументов, на который особенно сильно напирали противники этой меры, состоял в том, что государственная служба не дает достаточного вознаграждения и не представляет такой привлекательной перспективы, чтобы привлечь к себе лучшие дарования, — что другие профессии, служба в частных обществах и в других частных учреждениях, всегда будут представлять для талантливых людей карьеру, более для них привлекательную. Ничего не было бы удивительного, если бы этот аргумент был приведен защитником обсуждавшейся системы в ответ на главное затруднение, какое она представляет; но нельзя не удивляться тому, что ее противники представляли, как главный против нее аргумент, именно то, что составляет в ней, так сказать, предохранительный клапан. Такая система, которая имела бы своим результатом привлечение на государственную службу всех лучших дарований, представляла бы, конечно, серьезную опасность. Если правительство возьмет на себя удовлетворение всех этих общественных потребностей, для удовлетворения которых необходимы организованное действие сообща, широкая обдуманная предприимчивость, и если при этом оно привлечет к себе на службу самых способных людей, то тогда в государстве образуется многочисленная бюрократия, в которой сосредоточится все высшее образование, вся практическая интеллигенция страны (мы исключаем из этого чисто спекулятивную интеллигенцию), — вся остальная часть общества станет по отношению к этой бюрократии в положение опекаемого, будет ожидать от нее советов и указаний, как и что ей делать, — тогда честолюбие самых способных и деятельных членов общества обратится на то, чтобы вступить в ряды этой бюрократии, и раз вступив, подняться как можно выше по ступеням ее иерархии.
При таком порядке вещей вся та часть общества, которая находится вне бюрократии, сделается совершенно неспособной, по недостатку практического опыта, обсуждать или сдерживать бюрократическую деятельность. Никакая бюрократия не в состоянии принудить такой народ как американцы делать или терпеть что-нибудь, чего он не хочет. Но там, где все делает за народ бюрократия, там ничто не может быть сделано, что противно интересам бюрократии. Политическая организация бюрократических стран представляет нам сосредоточение всего опыта, всей практической способности народа в одну дисциплинированную корпорацию для управления остальной его частью, — и чем совершеннее эта организация, чем более привлекает она к себе способности из всех слоев общества, чем успешнее воспитывает она людей для своих целей, тем полнее общее порабощение, а вместе с тем и порабощение самих членов бюрократии. В таких странах правители настолько же рабы бюрократической организации и дисциплины, насколько управляемые — рабы правителей. Китайский мандарин есть в такой же степени орудие и креатура деспотизма, как и самый последний земледелец. Каждый иезуит есть полный раб своего ордена и существует только ради коллективной силы и значения своих членов.
Не надо также забывать, что поглощение всех лучших способностей страны в правительственную корпорацию рано или поздно делается бедственным для умственной деятельности и прогрессивности самой этой корпорации. Будучи крепко сплочена, действуя как система, и следовательно, как и все системы, руководствуясь в своих действиях известными, раз установленными правилами, правительственная корпорация подвергается постоянно искушению впасть в беспечную рутину, превратиться в мельничную лошадь, и когда она раз впадет в такое состояние, то если по временам и выходит из него, так разве только увлекаясь какой-нибудь незрелой идеей, успевшей завладеть фантазией одного из руководящих его членов. Эти наклонности, общие всем бюрократическим корпорациям, находятся между собой в тесной связи, хотя, по-видимому, и противоречат одна другой. Единственно, что может сдерживать эти наклонности, что может служить стимулом для поддержания способностей бюрократии на известной степени высоты, это — если способности бюрократии будут предметом неусыпной критики со стороны других не менее сильных способностей, находящихся вне ее. Но для этого необходимо существование таких условий, при которых могли бы независимо от правительства, формироваться люди, способные и приобретать те качества и ту опытность, без которых невозможно правильное суждение о важных практических делах. Если вы хотите иметь постоянно хорошую корпорацию чиновников, и притом такую корпорацию, которая была бы способна создавать улучшения и имела бы охоту их воспринимать, если вы хотите, чтоб ваша бюрократия не переродилась в педантократию, то не допускайте, чтобы она сосредоточивала в себе все занятия, которые образуют и воспитывают способности, необходимые для управления людьми.
Указать тот пункт, за который коллективная сила общества, управляемая признанными ее руководителями, не должна заходить в своем стремлении к устранению препятствий, лежащих на пути к достижению общего блага, — указать тот пункт, с которого применение этой силы становится вредным для свободы и прогресса, или правильнее сказать, с которого зло от применения этой силы начинает преобладать над истекающим из нее добром — сохранить насколько возможно все выгоды, какие представляет политическая .и интеллектуальная централизация, избегая при этом чрезмерного поглощения частной деятельности правительственною, вот один из самых трудных и самых сложных вопросов в науке управления. Это — такой вопрос, который не допускает общего абсолютного решения; его решение условливается главным образом, практическими подробностями, требует принятия во внимание весьма многочисленных и разнообразных соображений. Впрочем, я полагаю возможным признать следующее общее правило, как практический принцип, который можно безопасно принять в руководстве как идеал, который надо иметь постоянно в виду, как критерий, по которому следует обсуждать все мероприятия к преодолению препятствий: наивозможно большее раздробление власти при полном достижении тех целей, какие должна иметь власть, и вместе с этим наивозможно большая централизация знания и наивозможно большее излияние этого знания от центра. Так в муниципальной администрации, подобно тому, как это существует в штатах Новой Англии, все местные дела, не подлежащие непосредственному заведованию тех, кого непосредственно касаются, должны быть раздробляемы между отдельными должностными лицами, избранными местным населением, и кроме того, каждый особый род местных дел должен подлежать надзору особого центрального учреждения, которое составляло бы часть общего правительства. Орган этого центрального надзора должен сосредоточивать в себе, как в фокусе, все разнообразное знание и весь опыт, какие только могут быть почерпнуты из того, что делается во всех местностях по известной отрасли общественных дел, а также из того, что делается по этому предмету в других странах, и, наконец, из общих принципов политической науки. Этот центральный орган должен знать все, что только делается по предмету, и его специальная обязанность должна состоять в том, чтобы делать приобретенное им знание полезным для других. Надо предполагать, что, будучи поставлен на такую высоту, которая делает для него доступной столь широкую сферу для наблюдения, подобный орган будет чужд мелких предрассудков и узких взглядов, свойственных местным органам, и его мнения будут иметь большой авторитет; но власть его, по моему мнению, должна ограничиваться только понуждением местных должностных лиц к исполнению законов, данных им в руководство. Во всем том, что не предусмотрено общими правилами, местные должностные лица должны быть предоставлены своему собственному суждению под личной ответственностью перед своими избирателями. За нарушение правил эти лица должны быть ответственны перед законом, а сами правила должны устанавливаться законодательной властью. Центральная административная власть должна только наблюдать за исполнением законов, и если законы не используются надлежащим образом, то смотря по роду дела, должна или обратиться к суду для восстановления силы закона, или к избирателям для устранения от должности лица, не исполняющего законы как следует. Нечто похожее на такой центральный орган надзора, какой мы предположили, представляет бюро закона о бедных (Poor Law Board), имеющие назначением надзирать за администраторами налога для бедных (Poor Rate). Хотя власть этого бюро и переходит за пределы той власти, какая, по нашему мнению, должна принадлежать центральному надзирающему органу, но в этом частном случае такое расширение власти было справедливо и необходимо, так как этому бюро предстояло искоренить глубоко укоренившиеся привычки дурной администрации и, притом, дело шло о таком предмете, который глубоко затрагивает не только интересы местностей, но интересы всего общества. И в самом деле, нельзя же ведь признать, чтобы какая-нибудь местность имела нравственное право через дурное ведение своих дел превращать себя в гнездо пауперизма, потому что этот пауперизм неизбежно будет переходить на другие местности и таким образом вредить нравственному и физическому благосостоянию всего рабочего класса. Впрочем, если в данном случае и может быть совершенно оправдана та административная и законодательная власть, какая предоставлена бюро закона о бедных (и которой это бюро пользуется весьма умеренно, благодаря господствующему на этот счет в обществе мнению), так как тут дело идет о первостепенном интересе всего народа, но ни в каком случае не может быть оправдано предоставление подобной власти такому органу, который надзирает за интересами чисто местными. Существование центральных надзирающих органов было бы равно полезно по всем отраслям администрации. Никогда не может быть излишней такая деятельность правительства, которая не препятствует индивидуальной деятельности и индивидуальному развитию, а только помогает им, поощряет их. Зло начинается там, когда вместо того, чтобы вызвать людей на деятельность индивидуальную или коллективную, правительство заменяет их деятельностью своей собственной, когда вместо того, чтобы служить источником, откуда каждый мог бы черпать нужные ему сведения, вместо того, чтобы советовать, а в случае нужды и призывать на суд, оно заставляет людей работать против их воли или стоять в стороне, сложа руки, и само за них делает то, что они должны были бы делать. В конце концов государство всегда бывает не лучше и не хуже, чем индивидуумы его составляющие. Если оно предпочтет административное искусство, или, лучше сказать, эту кажущуюся способность, которая приобретается практическим занятием подробностями какого-нибудь дела, — если оно это предпочтет широкому и высокому индивидуальному развитию и умалит таким образом своих граждан, чтобы сделать послушным в своих руках орудием для достижения хотя бы даже и благих целей, то не замедлит оно убедиться, что с маленькими людьми нельзя сделать ничего великого, и что превосходная его машина, для совершенства которой оно всем пожертвовало, ни к чему не пригодна по причине отсутствия жизненной силы, которую оно задавило, чтобы облегчить ход своей машины.
Источник: О Свободе: Антология мировой либеральной мысли (I половины ХХ века). М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 288–392; пер. с англ. А.Н. Неведомского.