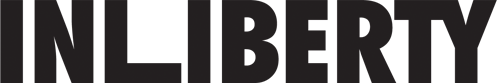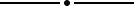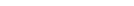Йолланд и Оуэн. Мы даем чему-то имя, и — раз! — эта вещь начинает существовать. Каждое имя идеально уравнено со своими корнями, полностью соответствует своей реальности.
Хью. Но помните, что слова — это сигналы, индикаторы. Они не бессмертны. И может случиться — если воспользоваться образом, который тебе понятен — может случиться, что цивилизация окажется запертой в языковом контуре, утратившем связь с ландшафтом... фактов.
Йолланд. Я еще тебя дешифрую![1]
I. Введение
Практика присвоения имен собственных у государства и на местном уровне, в соответствии с обычаем, резко различается. Цель в обоих случаях — сделать человеческий и материальный ландшафт «прозрачным» (legible) за счет четкого именования уникального индивида, дома или какой-либо географической особенности. Тем не менее обе эти практики созданы конкретными акторами, видящими цели идентификации совершенно по-разному. Локальные, традиционные методы, как мы увидим, позволяют достичь уровня четкости и точности — зачастую с впечатляющей экономией, — полностью соответствующего потребностям посвященных местных жителей. Государственные практики именования, напротив, создаются, чтобы не знакомый с местными реалиями «чиновник» мог безошибочно определять людей и объекты не в одном конкретном месте, а во многих сразу, за счет использования стандартизированных административных методов.
Без государственного именования не может быть государственного строительства
Изучение государственного строительства связано, среди прочего, с прослеживанием процессов разработки и применения новаторских систем именования и классификации мест, дорог, людей и прежде всего собственности. Эти государственные проекты увеличения «прозрачности» накладываются на местные практики, а зачастую и вытесняют их. Там, где местные практики сохраняются, они как правило охватывают все более узкий спектр взаимодействия в пределах «соседских» сообществ.
Иллюстрацией этих двух вариантов «прозрачности» могут стать местные и официальные названия дорог. К примеру, в штате Коннектикут (США) есть небольшая дорога, соединяющая городки Дарэм и Гилфорд. Жители Дарэма в просторечии называют ее «гилфордской дорогой» — вероятно потому, что это дает дарэмцам точное представление о том, куда они по ней доберутся. В Гилфорде она же называется «дарэмской дорогой» — по аналогичной причине. Можно представить себе, что в какой-то гипотетической срединной точке дорогу могут называть и так, и эдак. Подобные названия весьма практичны: они содержат ценные для местных жителей знания, в частности, пожалуй самый важный факт, который человек хочет узнать, когда речь идет о дороге. То, что у дороги имеются два названия, в зависимости от того, на каком ее конце вы находитесь, говорит о ситуативном, субъективном характере местных практик присвоения имен. Неформальные, «народные» практики не только порождают аномалии вроде двух и более названий для одной дороги: они приводят и к тому, что несколько разных дорог получают одинаковые названия. Так, в той же местности дороги, ведущие в Дарэм из близлежащих городков Киллингворт, Хэддам, Мэдисон и Мериден, также носят у местных жителей название «дарэмских».
А теперь представим себе, какие непреодолимые проблемы ставит эта народная система, эффективная на местном уровне, перед посторонним, которому требуется одно четкое наименование для каждой дороги. Так, если бригаде ремонтников, подчиняющейся властям штата, поручат заделать выбоины на «дарэмской дороге», тем придется переспросить: «На какой из дарэмских дорог?». Поэтому неудивительно, что на всех региональных картах и планах дорога между Дарэмом и Гилфордом фигурирует как «шоссе 77». Более того, каждый микросегмент этой небольшой дороги обозначен серийными номерами телефонных будок, указателями и границами городов.
Государственные практики присвоения имен основаны на едином подходе, стандартной схеме идентификации, обеспечивающей взаимоисключающие и исчерпывающие обозначения[2]. И эта система способна работать на благо граждан: если на шоссе 77 вас забирает карета государственной службы скорой помощи, вам наверняка станет легче от сознания того, что ее водителю не придется гадать, на какой именно дороге с вами произошло несчастье.
Во всех топонимах, именах, названиях дорог и рек закодированы важные знания. Порой они связаны с местной «устной историей»: например Дорога девственниц (на ней некогда жили пять сестер, оставшихся старыми девами), Дорога к холму сидра (на этом холме когда-то был яблоневый сад и пресс для изготовления сидра), Дорога к горшку сметаны (на ней прежде располагалась молочная ферма, где соседи покупали молоко, сметану и масло). Когда такое название приживается, оно становится для местных жителей самым точным и полезным. В других случаях в названиях отражены географические особенности местности: Дорога к Слюдяной гряде, Дорога к голой скале, Дорога к изгибу ручья. В небольшом районе сумма названий дорог и топонимов по сути представляет собой справочник по местной истории и географии — если только вы знаете, какие истории, характеристики, эпизоды и семейные предприятия в них «закодированы»[3].
Для официальных лиц, которым необходима совершенно иная форма упорядочения, подобные местные знания, при всей своей причудливой привлекательности, «непрозрачны». Они выдвигают на первый план местную, а не единообразную, стандартизованную информацию. В колониальных империях, где завоеватели вообще говорят на другом языке, непонятность вербального ландшафта представляет собой практически непреодолимое препятствие для эффективного управления. Поэтому важнейшим шагом колонизаторов становится переименование этого ландшафта. Этим объясняется, почему при составлении карты Ирландии в 1830-х годах британцы переиначивали многие гэльские топонимы (например, Бан-на-Абхан, по-гэльски «устье реки») таким образом (в Бернфут), чтобы они понятнее звучали для правителей.
Впрочем, конфликт между диалектным, местным смыслом топонимов и всеобъемлющей системой обобщенной (synoptic) «прозрачности» носит, в общем, повсеместный характер. Он обостряется культурными различиями, но в конечном итоге связан с различием целей, для которых создается семантическая система. В частности, на западе штата Вашингтон власти округов в 1970-х меняли старые названия улиц и дорог (например, Дорога к ферме у Французского ручья, Дождевая дорога, Легкая дорога, Картофельная дорога) на новые, подчиненные общей логике серийных номеров и направлений (19-я Северо-западная улица, 167-я Юго-восточная улица). Результатом стала стандартизация уличных обозначений, в рамках которой любой дом можно отыскать с поистине картезианской простотой[4]. Но как видно из заголовка статьи, на которую мы ссылаемся («Города в штате Вашингтон возвращают себе поэтичные названия улиц»), это вызвало настоящий «бунт», и прежние названия улиц были возвращены — к отчаянию планировщиков, чья затея позволяла каретам скорой помощи и пожарным машинам быстро и безошибочно добираться до места назначения. Для планировщика, руководителя транспортной структуры, налоговика или полицейского большее удобство такой системы по сравнению с «народной» очевидно: «Я, инженер, слыша все эти странные названия, только вздыхаю: „Вот ужас!“. Со всеми этими именами типа Килларни Плейс или Как-Бишь-Его, тупиками и кольцевыми улицами найти нужный адрес очень трудно»[5].
II. Присвоение имен как элемент государственного строительства: пример с фамилиями
Подобно топонимам, постоянные фамилии позволяют проследить «человеческую географию» любого региона. Имена играют важнейшую роль в формировании идентичности, культурной принадлежности, истории: они могут как объединять, так и разобщать группы людей. Они представляют собой неотъемлемый элемент информационно-властной системы. В настоящей работе мы исследуем фамилии как социальный конструкт — систему знаний, вплетенную в паутину власти. Хотя большинство жителей Запада считает неизменные, наследуемые фамилии чем-то само собой разумеющимся, они появились лишь в Новое время. С помощью компаративного анализа мы попытаемся доказать, что наследуемые семейные фамилии — феномен сравнительно недавний, тесно связанный с усилением контроля государства над людьми и формированием современных правовых систем и режимов собственности. В частности, появление и распространение наследуемых фамилий представляло собой важнейший инструмент в борьбе за влияние между местными и «внешними» властями в ходе формирования современного национального государства, этнонациональной идентичности, и установления надежных систем частной собственности.
Проблема путаницы
Как это ни покажется удивительным, необходимо признать, что в древние времена и Средневековье государство было довольно слабо осведомлено об обществе, которым оно правило. Государственные чиновники имели самое отдаленное представление о населении, находящемся под их юрисдикцией, его передвижениях, недвижимости, богатстве, размерах урожаев и др. Уровень их неосведомленности был прямо пропорционален раздробленности источников информации. Местные деньги, меры объема (например бушель) и длины (элль, род, туаз) чаще всего варьировались в зависимости от территорий и сторон, заключавших сделку[6]. «Непрозрачность» местных сообществ, естественно, ревностно оберегалась их элитами в качестве эффективного средства защиты от вмешательства высших эшелонов власти в их дела.
Из-за нехватки общих, совокупных данных о людских и материальных ресурсах государства, чиновники зачастую их переоценивали, что приводило к чрезмерным поборам, а затем бегству населения или бунтам, либо недооценивали, и тогда имеющиеся ресурсы не использовались. Таким образом, история государственного строительства представляет собой историю преодоления этой «непрозрачности». Это преодоление — наперекор упорному сопротивлению — осуществлялось в разных формах: составлением земельного кадастра и созданием общей системы регистрации собственности, введением метрической системы мер, общенациональных переписей населения и единой валюты, кодификацией общенационального законодательства.
В нашем случае предметом исследования станет одна из важнейших и «знаковых», на наш взгляд, побед в этой «борьбе за прозрачность» — учреждение постоянных, имеющих юридическую силу фамилий. Если «народные» топонимы «непрозрачны» и непонятны посторонним чиновникам, то к «народным» именам это относится в еще большей степени. Фиксация имен, в особенности постоянных родовых, в качестве юридических носителей идентичности, везде в целом представляла собой государственный проект. В качестве одного из первых, несовершенных средств юридической идентификации введение постоянных родовых имен было тесно связано с такими важнейшими административными функциями, как сбор налогов, регистрация собственности, учет рекрутов и переписи. Чтобы понять, почему эта инициатива представляет собой «качественный скачок» в повышении «прозрачности» представления госчиновников о населении, необходимо учесть абсолютное непостоянство «народных» практик присвоения имен, неупорядоченных государством.
Во многих странах мира эти неформальные методы необычайно богаты и разнообразны [7]. В ряде культур имя человека меняется в зависимости от контекста или со временем. Бывает, что имя младенца еще в утробе меняется, и даже не один раз — если возникает ощущение, что роды проходят неудачно. Часто имена варьируются на разных этапах жизни (в младенчестве, детстве, юности, зрелом возрасте, старости), а в некоторых случаях имя меняется после смерти человека. К этому можно добавить имена шутливые, ритуальные, траурные, прозвища, школьные клички, тайные имена, имена для сверстников и друзей, имена для родных другого супруга. Каждое имя относится к конкретному этапу жизни, социальному контексту или собеседнику. В таких случаях на вопрос «как вас зовут?» может быть лишь один ответ: «Это зависит от ситуации».
В небольшом местном сообществе это изобилие имен, естественно, не порождает никакой путаницы. Местные жители знают все необходимые им имена, правила их употребления, пространство для маневра в рамках этих правил и случаи, когда их можно нарушить. Они точно знают, кто есть кто.
Но как в местном масштабе удается избежать путаницы при отсутствии фамилий? Возьмем простейший пример с небольшим набором имен. Утверждается, в частности, что в начале XVIII столетия в Англии 90% мужчин носили всего восемь имен (Джон, Эдвард, Уильям, Генри, Чарльз, Джеймс, Ричард, Роберт). Но даже в отсутствие постоянных фамилий у местных жителей была масса способов точной идентификации любого человека. Как правило для этого было достаточно прозвища, второго имени или отчества. Так, одного Джона можно было отличить от другого, указав имя его отца (Уильямов Джон/Джон Уильямов сын/Джон Уильямсон) [8], привязав имя к профессии (Джон-мельник, Джон-пастух), или к какой-то точке на местности (Джон с холма, Джон с ручья), либо черте характера (Джон-лентяй). В манориальных или приходских записях такие прозвища тоже фиксировались — для ясности.
В современной населенной мусульманами малайской деревне, где постоянных фамилий нет, а количество имен тоже ограничено, используется аналогичная практика. Владельца небольшой лавочки по имени Касим от четырех других Касимов в деревне отличает прозвище Касим-Кедай (Касим-лавочник), Ахмада, умеющего читать Коран, называют Лебай-Ахмад, Мансура, который споткнулся, гонясь за детьми, и с него свалился саронг, прозвали (за глаза, конечно) Мансур-Терлондех (Мансур, потерявший саронг), а Закарию с заячьей губой, опять же за глаза, — Захария-Рабит (Захария — заячья губа). В этой деревне каждое из упомянутых имен отличается точностью, но только на местном уровне: надо там жить, чтобы знать, кто из селян отличается леностью, кто знает наизусть Коран, кто споткнулся, запутавшись в саронге, — точно так же как в английской деревне только соседи знают, что отца именно этого Джона зовут Уильям. Такая простонародная система полностью «заточена» под тех, кто обладает достаточным знанием местной специфики, чтобы понять подобные прозвища. Без «местного сопровождающего», заполняющего пробелы в имеющейся информации, посторонний будет просто теряться в догадках.
Отчасти благодаря автономности систем присвоения имен такие сообщества в прошлом были частично «непрозрачны» для государственных чиновников. Контакты с людьми как правило осуществлялись косвенно, через посредников — местного помещика, старосту, имама или приходского священника, кабатчика, нотариуса. У этих посредников, естественно, имелись свои личные и групповые интересы. Роль «привратников» могла приносить им немалую выгоду. В любом случае их интересы никогда полностью не совпадали с интересами государственных чиновников, а зачастую и вступали с ними в противоречие. Именно поэтому в данных переписей на местах численность населения часто занижалась (чтобы уклониться от налогов, трудовой или воинской повинности). Занижалась также площадь и урожайность сельскохозяйственных земель. В своей классической работе о жителях болот на юге Ирака Уилфред Тезигер приводит поучительный пример использования местными неосведомленности государства в своих целях. Представители полицейской службы провинции (они же обеспечивают набор в армию) приезжают в деревню на болотах со списком из 32 молодых людей, подлежащих призыву, из которых двоих они намерены забрать на службу. Но поскольку сами представители государства разыскать нужных людей не могут, им говорят, что юноши, которых они ищут, слишком молоды, переехали в другое место или умерли. Вместо них полицейским передают двух других парней, которых отобрали для службы в армии старейшины деревни [9].
Преодоление «непрозрачности»: обуздание случайного
Проблему с именами и идентификацией можно представить в общем виде. Возьмем полицейского (впрочем, с таким же успехом это может быть сборщик налогов или военный комиссар), который пытается найти конкретного человека. Предположим далее, что он столкнулся с ситуацией, напоминающей положение дел в английской деревушке начала XVIII века, но где к тому же не употребляются отчества — не говоря уже о постоянных фамилиях. Для простоты пусть в этой деревне проживает 1000 мужчин, между которыми равномерно распределились восемь имен. Каковы в этом случае шансы, что полицейский задержит нужного ему человека? Допустим, он знает, что этого человека зовут Генри, но в деревне есть 125 мужчин с таким именем. Без помощи местных, даже если ему известны подлинные имена всех жителей деревни, полицейский почти наверняка потерпит неудачу. А теперь представим, что у мужчин в деревне по два имени, которые варьируются произвольно. В этом случае вероятность того, что полицейский схватит не того Генри, сильно уменьшается, но остается существенной, поскольку в деревне будет 15 «Генри-Томасов», 15 «Уильямов-Джеймсов» и т.д. Далее предположим, что у мужчин в деревне есть по три имени, также варьирующихся произвольно: тогда шансы полицейского на арест нужного человека выглядят как 50 на 50. Защищенность жителей деревни от идентификации посторонними резко уменьшается при прибавлении каждого дополнительного имени.
По сути наш гипотетический пример представляет собой лучший из всех возможных вариантов. Представим на минуту, что упомянутые восемь имен распределяются неравномерно: скажем, имя Уильям настолько популярно, что его носит половина мужчин в деревне, а другие семь имен поровну распределены между остальными. В этом случае полицейскому, ищущему Уильяма, придется выбирать из 285 тезок, если у селян есть только по одному имени, из 81 — если у них по два имени и из 39 — если у них по три имени [10] . Таким образом, при неравномерном распределении имен вероятность того, что «подозреваемый», носящий наиболее распространенное имя, не будет найден, существенно повышается.
Если мы произвольно навяжем такой деревне систему постоянных официальных фамилий, в результате чего Томас, сын Уильяма, станет Томасом Уильямсоном, его сын, скажем, Генри Уильямсоном, а его сын, в свою очередь, Эдвардом Уильямсоном, и т.д., шансы полиции на выявление человека в его собственном поколении не повышаются, но намного увеличивается вероятность определения, кто его родители, дед с бабушкой, сыновья и дочери, поскольку все они должны носить одну и ту же постоянную фамилию. Вопросы наследования, отцовства и родственной принадлежности становятся намного понятнее, но не проясняются полностью.
До появления внутренних паспортов, фотографий и номеров соцстрахования полиция в целях идентификации обращалась прежде всего к именам людей. Поиски человека с их помощью, конечно, зависели от готовности самого индивида и местной общины поделиться его подлинным именем. Если индивид уклонялся от встречи с властями, а община относилась к ним враждебно, у государственных чиновников ничего не получалось. Отсюда и пристрастие государства к внутренним паспортам, которые люди должны постоянно носить с собой под угрозой штрафа, или, еще лучше, к отпечаткам пальцев, отличающимся уникальностью, и даже профилям ДНК — безошибочным «маркерам», присутствующим в любых образцах тканей человека.
Представим на минуту общество, где высок уровень законопослушания, но главным «идентификатором» остается имя. В этой ситуации задача полиции — мы для удобства берем ее в качестве примера любого органа власти, разыскивающего конкретного человека, — может осложниться по двум причинам. Во-первых, чем меньше разнообразие имен у той или иной группы людей, тем труднее становится идентификация одного человека. Это можно назвать «иголочной» счастью проблемы поиска иголки в стоге сена. Сколько иголок выглядят точно так же, как та, что мы ищем? Но значение имеет и размер стога. Попросту говоря, проблема «стога» — это проблема масштаба. Если полиции нужно найти одного человека в большом городе, регионе или целой стране, путаница из-за одинаковости имен превращается в административный кошмар. Как мы покажем ниже, этот кошмар лишь усугубляется географической мобильностью населения. Если люди хотя бы изредка переезжают с места на место, узнать, в каком стоге следует искать нужную иголку, практически невозможно.
Современному государству — под этим мы подразумеваем государство, чья идеология предусматривает масштабные планы по улучшению материального положения граждан, — для выполнения своих задач требуется как минимум две формы «прозрачности». Во-первых, оно должно быть способно точно определять местонахождение каждого гражданина. Во-вторых, ему необходима стандартизованная информация, позволяющая создавать совокупные статистические сводки о собственности, доходах, здоровье и демографическом составе населения, производительности труда и др. Хотя значительная часть этой совокупной информации, необходимой служащим современного государства, первоначально собирается у самих граждан, этот сбор должен осуществляться в форме, пригодной для включения в общую статистику — краткий обзор тех или иных социальных условий, интересующих государство.
Служащие современного государства — да и любой большой организации — по необходимости как минимум на шаг отдалены от общества, которым им поручено управлять. Интересующую их человеческую деятельность они «видят» в основном посредством упрощенных и обобщенных данных в документах и статистической отчетности — отчетах о налоговых поступлениях, списках налогоплательщиков, земельных кадастрах, рассчетах средних доходов и их распределения, таблицах смертности, ценах и показателях производительности труда. При наличии таких обощенных инструментов повышения прозрачности их можно применять в качестве основы для оценки успехов «благодетельного» (impoving) государства [11]. Аналогичным образом, тенденции в статистике уровня несчастных случаев, рождаемости, смертности, занятости, грамотности и покупки потребительских товаров длительного пользования служат индикаторами результативности государственной политики. Программы по повышению благосостояния населения даже в большей мере, чем простая идентификация, требуют набора методов выявления информации о людях и ее систематизации по нужным критериям. Чем выше уровень навязчивости и специфичности такого вмешательства, тем тоньше должны быть эти инструменты повышения «прозрачности». Наглядный пример в этом отношении — демографическая информация, необходимая, скажем, для вакцинации в связи с эпидемией или для выявления всех жителей города, имеющих диплом инженера, либо детей с дефектами речи.
Значение статистики и количественных методов повышения «прозрачности» указывает на то, что внедрение постоянных фамилий, как мы указывали, — лишь один из методов государства, в совокупности призванных переустроить сравнительно «непрозрачный» мир «народных» смыслов в систему, поддающуюся обобщенному учету. Пример с единообразными, стандартизованными единицами измерения и составлением кадастров демонстрирует логическую связь «прозрачности» имен с другими инициативами в области государственного строительства.
Постоянные фамилии и государство: истоки
Если мы ограничим наш анализ только Европой, то там до XIV века постоянные родовые имена во многом были исключением из правил[12]. Прозвища, связанные с родом занятий или личными характеристиками, были распространены, но и они касались только одного конкретного человека, а не его потомков. Появление постоянных фамилий неразрывно связано с теми аспектами государственного строительства, где возникала необходимость различать отдельных субъектов (мужского пола), — сбором налогов (в том числе церковной десятины), воинской повинностью, доходами с земли, судебными решениями, свидетельскими показаниями, работой полиции[13].
Все эти виды деятельности требуют составления более или менее подробных списков. Поэтому не стоит удивляться, что именно по подобным документам лучше всего прослеживать попытки сделать «прозрачным» население и его генеалогию. Перепись (catasto), проведенная во Флоренции в 1427 году, была смелой (но неудачной) попыткой рационализации управления финансовыми и людскими ресурсами за счет фиксации имен, денежных средств, домов, земельной собственности и возраста жителей этого города-государства. В то время в Тоскане родовые имена были только у горстки могущественных семей (например Строцци), чьи представители, включая дальнюю родню, брали их в качестве свидетельства поддержки со стороны влиятельного клана. Подавляющее большинство людей чиновники сумели точно идентифицировать, но не по личным фамилиям. Иногда они упоминали отца и деда человека (например, Луиджи, сын Паоло, сына Джованни) [14] или указывали его прозвище, профессию либо какую-то черту характера. Можно с уверенностью утверждать, что в случае с catasto мы имеем дело с первыми этапами административной кристаллизации личных фамилий. И география этой кристаллизации почти идеально соответствовала административному присутствию флорентийского государства. Если в самом городе треть семей заявила о наличии второго имени, то во второстепенных городках эта доля упала до 20%, а в деревне — до 10%. Маленький, тесно спаянный мирок просторечия не нуждался в «правильных именах»: на практике они представляли собой имена официальные, употреблявшиеся лишь в административных целях. Многие жители самых бедных и отдаленных районов Тосканы — меньше всего контактировавших с чиновничеством — получили фамилии лишь в XVII столетии. Кроме того, уже в период переписи тосканцы отлично понимали ее назначение: провал мероприятия в основном был связан с их пассивностью и саботажем. Как показывает пример Флоренции, затея с именами, подобно стандартизации системы мер и составлению кадастров, представляла собой целенаправленное мероприятие государства.
Англия, Шотландия и Уэльс: частная собственность, майорат, правоохранительная деятельность
Даже в Англии и Шотландии, где фамилии прививались несколько столетий, в хаосе была своя логика. Если бы они возникли только на местном уровне, для узнавания людей, хватило бы дополнительных имен/прозвищ. Однако сформировавшаяся система включала наследуемые, фиксированные фамилии. Этот факт имеет ключевое значение для понимания значения фамилий с точки зрения государства. Их внедрение способствовало защите прав частной собственности, установлению режимов майората и обеспечению возможностей государства надзирать за подданными.
Фамилии получили широкое распространение лишь спустя довольно долгое время после норманнского завоевания Англии. Социальные нормы, сформировавшиеся к XII веку, предписывали: не иметь фамилии — позор для человека благородного звания [15]. Позднее фамилии распространялись, пусть и неравномерно, с введением при Ричарде II подушного налога[16] и предписанием Генриха VIII об обязательной регистрации младенцев при крещении.
Более тщательный анализ процесса распространения фамилий также позволяет выявить связь между английской системой именования и обеспечением прав частной собственности. В рамках «сделки», наблюдаемой и во многих других странах, аристократия добилась нерушимости своих прав собственности, взяв наследуемые фамилии. Их новая правовая идентичность представляла собой политический ресурс для притязаний на земельную и недвижимую собственность. К середине XIII века значительная часть крупных и средних землевладельцев в Англии уже имела наследуемые фамилии. Изучение документов Казначейства и Суда лорда-канцлера, включающих списки феодалов-помещиков, показывает, что в большинстве случаев происхождение их фамилий связано с землями, которыми они владели [17].
Следует отметить, что в первые сто-двести лет после правления Вильгельма Завоевателя существовала значительная неясность относительно статуса сделанных им крупных земельных пожалований. Ричард Маккинли отмечает: «Было неясно, в какой степени его пожалования были предоставлением земли в наследуемую собственность. В этих обстоятельствах все, что способствовало подчеркиванию наследственного характера такого землевладения, оценивалось владельцами положительно, и принятие наследуемой фамилии, особенно связанной с названием поместья, несомненно отвечало этой задаче... [Таким образом, принятие фамилий было] элементом их общего стремления к закреплению своего положения в качестве владельцев собственности, передающейся по наследству» [18].
Связь между землей и фамилиями акцентируется и характером этих фамилий, введенных норманнами после завоевания Британии: почти все они имели территориальные «корни». Действительно: «Последователи Вильгельма Завоевателя представляли собой довольно разношерстную группу, и если некоторые из них принесли с собой названия своих замков и деревень в Нормандии, то среди завоевателей было и много авантюристов из других народов, которых под знамена Вильгельма привлекла надежда обогатиться за счет грабежа. У них не было собственных фамилий территориального или родового характера. Те из них, кто обзавелся землей в Англии, получили имена, связанные с названием своих поместий, занимаемых должностей или полученных военных званий, а младшие сыновья норманнов-землевладельцев, получивших пожалования на новой родине, отказывались от родового имени и брали в качестве фамилии название своей новой собственности» [19].
Характер принятия фамилий также указывает на тесную связь между системой майората и практиками именования. К примеру, в XII–XIII столетиях нередко случалось так, что старшая ветвь семьи продолжала использовать наследственную фамилию, а младшие ветви брали себе другие, поскольку не имели прав собственности на основное семейное поместье [20]. Более того, реорганизация системы землевладения, официальное введение майората и возникновение наследуемого копигольда при Эдварде I способствовали ускорению распространения фамилий. В целом же внедрение постоянных фамилий в географическом плане шло рука об руку с усилением присутствия Короны и ее служащих. Оно происходило «среди высших классов активнее, чем среди низших, на юге раньше, чем на севере»[21], и в больших городах быстрее, чем в деревне. Чем больше был контакт с созданным Короной миром документов, списков, налогов, воинской повинности, завещаний и правовых титулов, тем сильнее ощущалась необходимость в точном именовании людей.
В редких случаях, мы можем, словно муху в янтаре, воочию увидеть этот организованный государством процесс кристаллизации. Одного валлийца, представшего перед судьей в начале XVI века, при Генрихе VIII, спросили, как его зовут. Он ответил, как было принято в Уэльсе: «Томас Ап [сын] Вильяма, Ап Томаса, Ап Ричарда, Ап Хэля, Ап Эвана Вогана». Судья велел ему «оставить старые привычки... после чего он стал звать себя Мостоном, по названию своего главного дома, и оставил эту фамилию потомству» [22]. Можно, однако, предположить, что соседи Томаса об этой новообретенной «административной» фамилии и слыхом не слыхали.
Это небольшое происшествие, случившееся в Уэльсе, говорит нам о том, что местные, просторечные имена сохраняются и зачастую долгое время сосуществуют с официальными фамилиями. Каждая из этих категорий применяется в определенной сфере общественных отношений, для определенных контактов и ситуаций. Местные практики именования не сходят на нет полностью, а если и исчезают, то очень редко: просто социальная сфера, где они остаются актуальными, сокращается. Постепенность внедрения официальных именований со всей очевидностью проявляется в связи с появлением телефонных книг в тех странах, где постоянные фамилии появились недавно [23]. По мере роста контактов с «большим миром», миром официальных документов и реестров (налоговых квитанций, списков военнообязанных, школьных бумаг, правовых титулов на недвижимость и описей собственности, свидетельств о рождении, браке и смерти, внутренних паспортов, судебных решений, юридически оформленных контрактов) расширяется и социальная сфера применения официальных фамилий. Обширные сегменты общественной жизни, где раньше можно было успешно обходиться без документов, действуя по обычаю, теперь не способны существовать без «бумажной волокиты», печатей, подписей и бланков по установленному властями образцу. Государство создает неодолимые стимулы, чтобы люди называли себя так, как оно предписывает.
Гражданство, идентичность и государственное управление
Во Франции логика и география распространения «вторых имен», а затем постоянных фамилий, мало отличалась от того, что происходило в Англии или Флоренции. В средневековом Лангедоке, к примеру, чуть ли не три четверти населения носили всего несколько имен (Гийом, Бернар, Раймон, Пьер, Понс). В дворянских семьях все чаще использовались вторые имена-прозвища (еще не настоящие
nomdefamille), чтобы выделить старшего сына-наследника. Таким способом эти имена, а затем фамилии, распространялись сначала среди дворянства, жителей крупных городов и владельцев собственности. Проводниками этих перемен выступали нотариусы, занимавшиеся на местах учетом и регистрацией: для них точная идентификация была крайне важна. Дело Мартена Герра в XV веке, ставшее знаменитым благодаря одноименному фильму, касается именно трудностей с установлением личности, особенно в условиях мобильности населения. Позднее, когда свидетельства о рождении получили большее распространение, подданным было запрещено менять имя без разрешения Короны[24].
В целом же связь между государственным строительством и огосударствлением именования настолько сильна, что на деле распространенность четких, постоянных, официально зарегистрированных фамилий может считаться надежным показателем уровня присутствия государства. В результате можно составить хронологию за длительный период, показывающую неравномерность и этапы этого «поглощения» общества государством. В Британии эта хронология продемонстрирует, что проекты повышения «прозрачности» часто буксовали в горных районах, где они сталкивались со средой и людьми, отличавшимися культурно-лингвистическим своеобразием. Горы, как подчеркивал Бродель, служили оплотами относительно самостоятельных местных сообществ: «Ведь все запреты и ограничения, которые цивилизация (политическое и социальное устройство, денежные отношения) накладывает на человека, здесь недействительны. Здесь нет богатых землевладельцев с мощными и разветвленными корнями... Населенные пункты тут редки, как и представители власти, здесь нет городов в полном смысле слова; добавим, что нет и стражей порядка... Горы — это приют свободы, народоправства, крестьянских „республик“» [25].
Из-за труднодоступности, низкой плотности населения, бедности и активного сопротивления местных жителей в горные районы Уэльса и Шотландии постоянные фамилии (не говоря уже о стандартизованных топонимах) пришли «с опозданием». Чем выше в горы, чем дальше от административных центров, расположенных на равнинах, тем позже это происходило. Рискуя перегнуть палку с обобщениями, все же скажем: чем активнее велось государственное строительство, тем раньше появлялись постоянные фамилии[26]. Так, они довольно быстро появились в Италии, Франции, Англии, но медленнее приживались в Швеции, Германии, Норвегии и Турции. Во многих колониях этот процесс произошел еще позже, а в некоторых — только начался[27] . В каждом случае достаточно четко просматривается такая картина: постоянные фамилии распространяются из административного центра темпами, обусловленными «огосударстивлением»: вначале в столице, на вершине социальной пирамиды, в современных институтах (например, школах) и под самый конец — в «маргинальных» зонах (в горах и на болотах), среди низших классов, изгоев и отверженных.
Как только правовые титулы, завещания, соглашения о купле-продаже собственности и некоторые контракты начинают утверждаться государством, у людей возникают мощные стимулы стать «прозрачными» подданными. Но в то же время вековечный страх перед государством, взимающим налоги и забирающим людей на войну, по-прежнему давал немалой части населения основания для «непрозрачности». Даже в 1753 году британский парламент отклонил законопроект о переписи населения из опасения, что она приведет к повышению налогов, а еще через пять лет — отверг законопроект «об обязательной регистрации рождений, браков и смертей». Сравните это эффективное сопротивление в самой Англии с колониальной политикой Короны в Ирландии почти за сто лет до того: там Уильям Петти провел полную инвентаризацию земель, зданий, населения и скота, чтобы облегчить государству конфискации и контроль. Там, где автократия или военные захваты позволяют государственным чиновникам осуществлять проекты повышения «прозрачности» без необходимости с кем-либо консультироваться, их реализация происходит быстрее и в больших масштабах, хотя это может спровоцировать сопротивление и восстания.
Великой «повивальной бабкой» всех форм «прозрачности», включая постоянные фамилии, является война, предъявляющая повышенные требования к мобилизации ресурсов. Как показывает Чарльз Тилли, мобилизация в военных целях в начале Нового времени вынудила государство отказаться от косвенного управления в форме «сбора дани» через влиятельных и зачастую непокорных «посредников», и напрямую завладеть необходимыми для войны ресурсами[28]. Конечно, государству нужны не только рекруты (которых по счастью легко идентифицировать). В конце XVII века шестидесятитысячная армия потребовала бы также почти миллиона фунтов провизии в день для солдат и их 40 000 лошадей; добыть это — кошмар для любого снабженца. Чтобы ее прокормить, нужны были недюжинные организаторские усилия и расходы. Только хлеб, необходимый для пропитания войска, не говоря уже о вооружении и снаряжении для него, стоил столько же, сколько зарабатывали 90 000 простых тружеников. Такие расходы означали, что ячейки сети налогообложения должны были становиться все мельче, чтобы не пропустить недвижимость, деньги, коммерческие операции и, главное, людей, которые должны были воевать или оплачивать войну.
Современное гражданство и государство: вынужденная сделка
Если необходимое для налогообложения, полицейского контроля и ведения войн государственное строительство было главным главным стимулом для проектов повышения «прозрачности» при «старом режиме», то развитие демократического строя и модернистской социальной инженерии требовало совершенно иных форм «прозрачности». Охват современного государства в сочетании с его амбициями в отношении социальных реформ привел к тому, что оно обзавелось «лупой» с куда большей разрешающей способностью, чем имел любой «старый режим».
Величайший освободительный шаг Французской революции — Декларация прав человека — породил нового подданного/гражданина. Если раньше даже самые «назойливые» абсолютистские режимы должны были действовать через социальных посредников — духовенство, дворянство, городскую верхушку, — то революционной власти нужны были прямые, непосредственные отношения с гражданами. Этот новый гражданин представлял собой абстрактного, «без опознавательных знаков» индивида, по закону обладавшего равными со всеми остальными правами. В свою очередь, наделение всего населения гражданскими правами означало, что каждый человек будет обладать надежной и безошибочной «узнаваемостью» в качестве индивида, а не крепостного, члена общины, гильдии или прихода. Всеобщие права оборачивались и всеобщими обязанностями перед государством — обязанностями, включавшими прямую, обязательную воинскую повинность и уплату налогов.
Подобное распространение гражданства в сочетании с «прозрачностью» было неотъемлемым элементом интернационализации завоеваний Французской революции, которую осуществил Наполеон. Закон, принятый в 1812 году в Пруссии, поощрял принятие постоянных фамилий всеми иудаистами. В обмен, в соответствии с прогрессивными идеями Просвещения, евреи должны были получить гражданство. Связь между всеобщим гражданством и принятием имени, подходящим для правовой государственной идентичности, с особой наглядностью проявляется в судьбе евреев Центральной Европы. Хотя в Европе к началу XIX века широко распространились фиксированные наследуемые фамилии, у одной важной группы — ашкенази — таких имен не было. Ашкенази — мобильное, говорящее на идише еврейское население Центральной и Северной Европы — сумели сохранить древнюю систему присвоения родовых имен, сложившуюся еще в библейские времена. Однако в XIX столетии Австрия, Франция, Пруссия, Бавария и Россия навязали своему еврейскому населению современную систему фамилий. Мотивация подобных шагов была различна, но в целом речь шла о принятии зарегистрированной «правовой» фамилии в качестве условия для получения гражданства и эмансипации. Новая система фамилий облегчала задачи государства по начислению и сбору налогов, регулированию коммерческой деятельности, осуществлению воинской повинности и контролю над передвижением людей [29]: взамен, в награду за сотрудничество еврейское население получало полноценный статус граждан. На основе меморандума члена военного совета Пруссии Христиана Вильгельма фон Дома «Об улучшении гражданского состояния евреев», написанного в 1781 году, были разработаны несколько планов по обеспечению экономического и правового равноправия еврейского населения. И хотя эти планы во многом различались, все их авторы были согласны в одном: «во всех законопроектах объявляется, что официальный выбор имени обязателен» для предоставления прав гражданства[30]. И в королевском указе о предоставлении еврейскому населению гражданства Пруссии также значилось, что это делается только в том случае, если евреи приняли фиксированные, постоянные фамилии.
Вскоре после 1812 года выявились и скрытые мотивы нововведения. Как указывает Дитц Беринг, «сразу же после того, как евреи выбрали постоянные фамилии, начались попытки за счет этих имен обеспечить „узнаваемость“ евреев именно как евреев»[31]. На смену либеральному указу 1812 года пришел новый акт, принятый 22 декабря 1833 года и предписывавший взять фамилии всем евреям, а не только тем из них, кто стремился к натурализации. Более того, государство предприняло шаги, призванные гарантировать, чтобы ранее взятые еврейским населением фамилии соответствовали новым. Созданные правительством комитеты вынуждали евреев принимать фамилии, которые выбрало для них государство, например, Химмельблау, Рубинштейн, Бернштейн, Хирш и Лёв. Более того, в ряде докладов, составленных различными министерствами в 1830–1840-х годах, предлагалось ввести в уголовный кодекс статью, не позволяющую евреям менять фамилии. К 1845 году были приняты законы об обязательном списке фамилий, которые могли носить евреи в Пруссии. Еврейские фамилии приобрели неизменность. Уже вскоре «евреи, для которых в 1812 году были неохотно приоткрыты ворота правового гетто, были вновь заперты в другом гетто — „именном“»[32].
К 1867 году все «лазейки» были закрыты. Постановлением королевского кабинета, подписанным 12 июля 1867 года, главам районов предоставлялось право утверждать все изменения фамилий, происходившие в связи с переходом иудаистов в христианскую веру. Постановление затруднило смену фамилии за счет крещения. Таким образом, демократические революции 1848 года и другие реформы сыграли свою роль не только в освобождении населения, но и в усилении контроля над той его частью, что прежде ему не поддавалась. Прусское государство вводило постоянные фамилии не только для идентификации каждого гражданина, но и для «кодирования» его религиозного происхождения. Когда в нацистской Германии была предпринята попытка «окончательного решения еврейского вопроса», фиксированный список еврейских фамилий облегчил палачам осуществление геноцида.
К середине XIX столетия концепция всеобщего избирательного права для мужчин на Западе соединилась с крайне модернистской идеологией, требовавшей совершенно новых масштабов вмешательства государства в жизнь общества. Как только совершенствование самого общества (здоровья и квалификации населения, благосостояния, интеллектуального уровня, безопасности, добрососедства, жилищных условий, морали и др.) превратилось в важный государственный проект, потребовался совершенно новый уровень «прозрачности». Одно дело — «забрить» нескольких рекрутов или конфисковать часть урожая зерна, и совсем другое — проводить вакцинацию, дом за домом, в бедных кварталах большого города, проверять достоверность сведений об инвалидности (причем только по конкретному типу увечий) или создавать эпидемиологическую базу данных для выявления редких болезней. Ультрамодернистское вмешательство как правило требует точных, классифицированных, однозначных форм идентификации. Администраторы, если им дают волю, практически всегда отдают предпочтение тем или иным серийным номерам: бесконечным, дифференцированным, непрерывным сериям, простым в применении и обеспечивающим максимальную обобщенную «прозрачность».
Два примера из колониальной эпохи
Что происходит, когда модернизаторское государство с большими амбициями имеет дело с обществом, обладающим значительной «непрозрачностью»? Самый жесткий вариант подобной конфронтации встречается в истории колониализма, когда авторитарное, мобилизующее государство имеет дело с обществом, плохо ему известным и оказывающим сопротивление колонизаторам. В таких случаях государственные чиновники, сталкиваясь с населением, не имеющим или почти не имеющим прав на представительство, могут без помех изобретать схемы именования, соответствующие своим задачам; впрочем, насколько эффективны эти схемы — вопрос другой.
Мы рассмотрим два таких примера из истории колониализма, отделенные друг от друга примерно пятьюдесятью годами: создание постоянных фамилий для коренных американцев в США в конце XIX — начале XX века и попытку канадских властей обеспечить «прозрачную» идентичность индейцев-инуитов в 1950-х. Обе эти схемы, вроде бы простые по замыслу, при реализации превратились в причудливую смесь противоречий и путаницы. Их целью, естественно, было создание четких идентичностей (мужского населения), «прозрачных» для чиновников. Непосредственные же задачи, породившие оба замысла, различались: Бюро по делам индейцев США надеялось создать и закрепить новый режим частной собственности и, заодно, конфисковать дополнительные земли резерваций; канадские чиновники стремились к «точечному» государственному вмешательству для реализации своей концепции соцобеспечения, здравоохранения и развития. В то же время общей чертой обоих замыслов стала основополагающая культурная составляющая: формирование и распространение патриархальной структуры семьи, которая считалась подходящей для государственных концепций гражданства, прав собственности и цивилизованного, нравственного поведения.
Новые имена для коренных американцев
Историю колониальных захватов, особенно когда речь идет о европейских поселенческих колониях, где завоеватели обладали огромной властью, можно интерпретировать как гигантский проект по переименованию мира природы. Скорее, скорее — заменить коренные названия флоры, фауны, насекомых, гор, долин, птиц существительными из языка захватчиков, классами из их таксономии. Кроме того этот процесс представлял собой утверждение «прозрачности»: передачу знаний, в ходе которой на смену загадочной (для европейцев) «китайской грамоте» местных практик именования приходили «импортные» методы, понятные европейцам и загадочные для покоренных народов. Всеобщая смена названий — предпосылка для перехода из рук в руки власти, управления и контроля[33].
С наибольшей наглядностью суть этого проекта господства проявляется в попытках переименовать «туземцев-подданных» таким образом, чтобы колонизаторы могли точно идентифицировать каждого мужчину в качестве юридического субъекта. Чтобы понять значение и размах этого предприятия, его роль в обеспечении «прозрачности» и место в цивилизационном дискурсе, стоит проанализировать, насколько практики именования, бытовавшие у коренных американцев, были «непрозрачны» для европейцев.
Непрозрачность
У «индейцев» чиновники столкнулись с абсолютной, по их мнению, нестабильностью и множественностью имен. Как это часто происходит в небольших сообществах, не имеющих государственного устройства, у человека могло быть несколько имен в зависимости от того, с кем он общался (например, со сверстниками, представителями других поколений, близкими родственниками), и эти имена зачастую менялись со временем. Ребенка, увидевшего медведя и с криком вбежавшего в вигвам, могли назвать Бегущим от медведя. Позднее, если ему удавалось обуздать лошадь, которая сбрасывала других, он получал имя Скачущий на лошади. Охотника по имени Пять медведей могли переименовать в Шесть медведей, если он убил еще одного[34] . Исследователи, изучавшие принятие фамилий оджибуэями с озера Уигамоу, отмечали множественность их имен, в данном случае отчасти обусловленную контактами с европейцами. Одного и того же человека называли Фридом Смитом, Банани, Низопитавигизиком и Фредериком Сагачекипу[35].
Множественность имен, как явствует из приведенного выше примера, была не только следствием соответствующей практики коренного населения: она заметно усиливалась из-за «наложения» юрисдикций и проблем транслитерации. Одно из имен человека могло фиксироваться представителями нескольких структур: клерком в фактории, миссионером, писцом племени, военным или гражданским администратором. Речь могла идти о разных именах, а если люди еще и кочевали, различались и места их регистрации. Представьте себе задачу точной идентификации лиц, имеющих по пять-шесть имен и к тому же постоянно находящихся в движении[36]! Здесь, конечно, необходимо помнить, что запись имен представляла собой либо попытку их перевода на английский (например, Шесть медведей) или транслитерации, для которой не имелось единых правил. В обоих случаях результат не имел ничего общего с первоначальным именем, которое он должен был отражать[37]. Если речь шла о переводе, пусть даже точном, имя становилось для индейцев, не знавших английского, всего лишь бессмысленным набором звуков. В случае транслитерации проблема усугублялась большими фонетическими различиями между английским и языками коренных жителей. У оджибуэев с реки Северн, к примеру, это приводило к экзотическим местным вариантам английских имен: Флора = Пинона, Гектор = Экитах, Тельма = Темина, Изабель = Сабен, Амос = Томас, Луиза = Аноис[38]. Можно предположить, что при прямой транслитерации оригинальных имен, как это делало, например, Управление по делам индейцев Кроу с Дьявольского озера (Северная Дакота), результатом был лишь одним из многих возможных фонетических вариантов: Эйаупахамини, Ийапахамини, Эканаджинка, Вийакимаза, Вакаухотанина, «Васинесувнам, Тиовасте. Но даже если бы единые правила транслитерации существовали и писцы придерживались их со всей строгостью, результаты все равно казались бы белым чиновникам непонятными и непроизносимыми.
Для госслужащих возникали и две другие проблемы. Во-первых, даже переведенные, понятные имена казались абракадаброй. Возьмем, к примеру, «Баркли С Другой Стороны», «Элис, Стреляющая На Ходу», «Ирви, Выходящий Из Тумана» (индейцы кроу из Монтаны). Первое имя очевидно, но что считать фамилией: всю фразу, последнее слово, или?..
Во-вторых, и это было уже серьезнее, имена коренных жителей лишь изредка указывали на пол и семейный статус человека. У одной семьи южных шейенов, в частности, записывались такие «имена»:
Отец — Гинаои
Мать — Деон
Первая дочь — Халли
Вторая дочь — Айсима
Третья дочь — Имагуна
Первый сын — Инали
Второй сын — Зепко.
В письме, где перечислялись эти имена, пояснялось, что они не указывают на пол детей: на деле же автор имеет в виду, что если такое указание и есть, он его не понимает. Даже когда среди шейеннов утвердились имена, переведенные на английский, они очень редко указывали на роль человека в нуклеарной семье, что так ценится чиновниками. Вот один из результатов: «Воронья Шея», его «жена» «Тропинка», их сыновья «Кларенс Воронья Шея», «Отдохнувший Волк» и «Охотящийся Везде». А вот из переписи индейцев арапахо: «Медведь Лариат», его «жена» «Мышь», сыновья «Сидящий Человек» и «Чарльз Лариат», и дочь «Поющая Наверху». Как мы увидим, подобные «непрозрачные» практики именования не подходили для двух нормативных правовых критериев цивилизованной жизни: владения собственностью и законного брака.
Собственность: Закон Дэвиса
История коренных американцев в США говорит и о тесной связи между консолидацией современного национального государства, этнической ассимиляцией, формированием режима частной собственности и введением системы фамилий европейского типа. В своей работе о коренных американцах территорий Оклахома, Дакота и Вайоминг Дэниел Литтлфилд и Лонни Андерхилл анализируют характер этой связи в конце XIX — начале XX века[39]. До 1887 года земля у индейских племен находилась в общей собственности. Однако после принятия в этом году Закона о наделении землей правительство США предписало коренным американцам оформить на нее индивидуальные правовые титулы. Введение режима частной собственности преподносилось как «ассимиляторский» шаг, призванный приобщить индейцев к Американской мечте[40], но на деле оно обрекло коренных американцев, запертых в резервациях, на многие десятилетия нищеты[41].
Не менее важно и другое: новый режим также представлял собой серьезное покушение на влияние руководства племен[42]. Права собственности привязывались к праву на американское гражданство, в результате чего индейцы оказывались под действием законодательства США, а не законов племен. Более того, с упразднением коллективной собственности на землю руководство племен лишалось одного из главных источников своего влияния. Посредническая структура — племенная власть — перестала существовать, и коренные американцы попали под прямой контроль правительства США.
Пока административный режим управления коренными американцами напоминал косвенную власть, то есть пока целями белых чиновников было сдерживание и военная безопасность, их «непрозрачная» практика множественного именования создавала неудобства, но не фатальные. Чиновники действовали через собственных сотрудников-индейцев и немногочисленных вождей. В получении детальной информации для выявления конкретных людей они зависели от «местных следопытов».
С принятием в 1887 году Закона Дэвиса, уполномочивавшего президента выделить 160 акров земли в резервации каждому главе семьи (естественно, мужчине), все это изменилось. В течение 25 лет новый правовой титул на землю оставался в руках правительства (очевидно, чтобы не допустить обмана новых владельцев спекулянтами), после чего переходил к собственнику и его наследникам. Целью этой акции — помимо конфискации дополнительных земель, принадлежавших племенам, для белых поселенцев[43], — была культурная ассимиляция коренных американцев. «Получив свой надел, что означало отрыв от племени и его коллективизма, индеец становился субъектом законодательства штата или территории, где он проживал»[44]. В этом смысле Закон Дэвиса стал «мощным дробильным агрегатом для разрушения массива племенной „породы“»[45].
Теперь, когда многие коренные американцы должны были стать собственниками, не только находящимися под юрисдикцией племен, но и имеющими гражданство со всеми правами и обязанностями по законам общества в целом, их «непрозрачность» в качестве индивидов-мужчин становилась неприемлемой. Практики именования, бытовавшие у коренных американцев, годились для режима общей собственности с не слишком жесткой структурой семьи и кочевым образом жизни. Но для новоявленных оседлых граждан-крестьян, владеющих собственностью, они не подходили. Став юридическими субъектами, коренные американцы теперь нуждались в правовой идентичности, соответствующей потребностям государства.
Непосредственной причиной для стандартизации имен индейцев стало введение у них частной собственности на землю. Наделение людей землей означало оформление правовых титулов, документов о наследовании, составление кадастров, а это, в свою очередь, требовало четкой правовой идентичности — желательно отражающей близкие родственные связи (то есть принадлежность к «нормальной» нуклеарной семье). Реформаторы, считавшие это наделение шагом к необходимой и благой цели — ассимиляции, всячески стремились не допустить путаницы и судебных тяжб, связанных с традиционными практиками именования. Они занялись стандартизацией имен, чтобы гарантировать однозначную идентичность зарегистрированных владельцев земли: постоянные фамилии позволяли снизить возможность правовой путаницы в вопросе о наследниками покойного собственника.
Здесь стоит обратить внимание на неизбежную, чтобы не сказать принудительную, логику, соединяющую стандартизацию юридической идентичности и владение собственностью. Как отмечал один чиновник, американская система имен была «хороша, поскольку она закрепляет имя каждого человека в неизменном виде, и то же самое делает на практике... Мы не видим, как это можно было бы сделать иначе. Более того, и в этом состоит ее значение, она — единственная система, известная в американском праве, и нельзя не понимать, что во всех вопросах, и не в последнюю очередь в тех, что связаны с переходом собственности или ее передачей по наследству, у тех, кто игнорирует эту систему, возникнут неприятности»[46].
Когда было принято решение о выделении земли, начал набирать обороты целый механизм. Этот процесс — классический пример практического, системного господства: в конце концов, свидетельства о собственности, регистрация земель и налогообложение имущества требуют единых, стандартных форм идентификации.
Чрезвычайное разнообразие практик именования у индейцев, разные степени их контактов с белыми и разные степени их ассимиляции, а также множество административных механизмов управления коренным американским населением породили почти непреодолимую проблему «непрозрачности». «Поэт прерий» Хэмлин Гарленд воспринял «присвоение имен краснокожим после того, как они стали гражданами», как свою личное дело, и стремился заручиться вниманием президента Теодора Рузвельта, чтобы успешно довести его до конца. Подчеркивая необходимость «прозрачной» системы фамилий в юридических вопросах, связанных с частной собственностью, и в деле ассимиляции коренных американцев в рамках англоязычного американского общества, Гарленд 1 апреля 1902 года привлек внимание президента к проекту переименования индейцев [47]. В письме, где он призывал Рузвельта назначить Джорджа Берда Гриннела (натуралиста и этнографа, изучавшего шейеннов) главой комитета, ведающего присвоением новых имен всем коренным американцам, Гарленд четко указал свою цель — создать для всех индейцев четкую правовую идентичность: «Крайне важно, чтобы фамилии были логичны и подчинялись некоей системе. Весь список — как непреодолимые заросли... Чтобы предотвратить бесконечные юридические осложнения, имена надо давать в соответствии с положением в семье... Эту работу должен выполнять один центральный орган, а не клерки разных ведомств»[48].
Заручившись одобрением Рузвельта, Гарленд вместе с рядом представителей исполнительной власти приступил к осуществлению масштабного проекта по переименованию коренных американцев, живущих на Территориях [то есть вне существовавших на тот момент штатов]. Озабоченность созданием систематической, централизованной формулы переименования выражал еще в 1890 году уполномоченный по делам индейцев Томас Дж. Морган. Хотя «указание о присвоении имен индейцам и их максимально возможное закрепление за счет постоянного использования уже давно входило в наши задачи», писал он, оно не выполнялось широко и систематически[49]. Морган разработал общие ориентиры для присвоения новых имен. В своих рекомендациях он осудил вялые попытки систематизации и навязывания новых имен, оставившие после себя множество непонятных, непроизносимых и оскорбительных фамилий. Морган был недоволен как своими подчиненными, так и своими «подопечными» — коренными американцами: «Подобные служащие-индейцы и директора школ для индейцев не пытались разъяснить индейскому населению важность того, чтобы их имена звучали так же, как у белых, а потому встретили со стороны последних не готовность сотрудничать, а противодействие. В этом вопросе, как и почти во всех остальных, индейцы не понимают, что для них лучше. Они не видят преимущества нашей системы над их собственной и упорно борются против новшеств»[50].
Морган, Гриннел и Гарленд искренне пытались по возможности учитывать индейские практики именования, если они соответствовали минимальным критериям «прозрачности». Морган и Гриннел не возражали против сохранения индейских имен в случаях, когда те не были «слишком трудны в произношении». Загвоздка, понятное дело, состояла в том, что «трудными в произношении» они являлись для носителей английского языка. Если же первоначальное имя было слишком длинным и/или труднопроизносимым, его следовало заменять английским или переводным именем. Гарленд был с этим согласен. Легкие в произношении имена вроде «То-рич» или «Чонох» можно было оставить, а другие требовали перевода, а зачастую еще и сокращения. «Черного быка» можно было сократить до «Чернобилла» или «Чернобелла», «Стоящего быка» до «Стойбыка», «Альберта Коня в яблоках» до «Альберта Яблока», «Черного филина» до «Чернофила», «Храброго медведя» до «Храбмеда». Фамилию следовало дополнять христианским именем, например, «Чарльз Стойбык». Целью предложений Гарленда было сделать все имена «приличными и разумными», отразить в них правовую связь с семьей. Он делал акцент на таких преимуществах, как краткость, легкость в произношении для белых и «благозвучность», — все они должны были способствовать «прозрачности». Если существующие имена соответствовали этим критериям, их можно было оставить. Если нет, имена следовало сократить или даже изменить, а также привести к единой форме написания [51]. Как отмечал Гарленд, целью проекта было «полное переименование наших индейцев» по единой системе, с сохранением их прежних имен, если это возможно, либо их сокращением или изменением, чтобы имя «мог произнести сосед краснокожего, в результате чего все дети будут названы по отцу или фамилией, которую выберет их мать». Одним словом, он хотел создать «систему, показывающую семейные отношения, соответствующую пожеланиям краснокожих и понятную белым»[52]. Необходимо, писал Гарленд, наделить каждого нового землевладельца достойным и логичным именем — имен, звучащих при переводе оскорбительно (например, «Осунувшаяся женщина», «Пьяница», «Задай им», «Нэнси, убившая сотню», «Гнилая тыква»), следовало избегать[53].
Цивилизаторский проект
Переименование коренных американцев было «цивилизаторским проектом» как минимум в двух аспектах. За счет закона Дэвиса «краснокожих» вводили в совершенно новую жизнь, которая, как надеялись авторы, должна была привести к их полной ассимиляции. Подобно тому, как условием для предоставления полных прав гражданства евреям в Центральной Европе было юридическое закрепление за ними постоянных фамилий «христианского образца», для индейцев фиксированная в правовом порядке фамилия была предпосылкой «жизни после резервации». Создание такой правовой идентичностью было необходимым «универсальным приводом», запускающим весь официальный механизм современного государства.
В 1819 году Конгресс создал Civilization Fund для ознакомления индейцев с «обычаями и искусствами цивилизации». В целом целью фонда было превращение культур «охотников-собирателей», зависящих от кочевого образа жизни и коллективного владения землей (как тогда, часто ошибочно, считалось), в оседлое, аграрно-ремесленное общество, основанное на частной собственности. Первая ситуация, требующая от людей смелости, смекалки и чувства чести, ассоциировалась с дикостью, а оседлая жизнь с культурой собственности рассматривалась как повивальная бабка цивилизованности: «Можно ожидать, что наступит время, когда дикарь превратится в гражданина, охотник станет механиком, в каждой индейской деревне появится мастерская, школа и церковь, когда каждое их жилище будет одарено плодами промышленности, доброго порядка и прочной морали»[54]. Как отмечал директор Этнографического бюро Джон Уэсли Пауэлл, для решения этой задачи понадобятся новые имена, «способствующие слому индейского племенного строя, который поддерживает и о котором постоянно напоминает существующая у индейцев система именования»[55]. Система резерваций как таковая — в качестве механизма изоляции и надзора — задумывалась не как проект в сфере культурной автономии, а как прелюдия такой трансформации: «Помещение племен в ограниченное пространство постоянного проживания было предпосылкой для того, чтобы успешно их цивилизовать»[56].
Второй цивилизаторский проект — воплощенный в формуле переименования индейцев — был связан с переустройством «семьи» в соответствии с патриархальной структурой, принятой у белых христиан. У коренных американцев семейные и родственные практики сильно варьировались, но можно с уверенностью сказать, что они мало напоминали кодифицированные религиозные и правовые формы, характерные для преобладающей части американского общества [57]. Множественные и серийные брачные союзы, воспитание детей в «большой семье» и происходившие со временем изменения в составе кланов были широко распространены и служили лишь подтверждением необходимости «цивилизовать» коренное население.
«Непрозрачность» номенклатуры родства у коренных американцев зачастую воспринималась «цивилизаторами» не как свидетельство об иной структуре этих отношений, а как симптом того, что у самих индейцев в этом вопросе существуют путаница и беспорядок. Подобно тому, как испанский генерал-губернатор Филиппин в 1847 году ввел постоянные фамилии под предлогом, что это поможет филиппинцам понять, кто является их двоюродными сестрами и избежать браков между родственниками, те, кто занимался переименованием «краснокожих», воображали, что содействуют своим подопечным в ликвидации первобытного хаоса их «дикарских» обычаев. Хэмлин Гарленд, к примеру, полагал, что само отсутствие общей фамилии у родственников свидетельствует о том, «что каждый ребенок оказывается в мире в одиночестве» [58]. Говоря о переписи племени южных шейеннов, он заявлял: «Весь список — как непреодолимые заросли. К примеру, практически лишь один человек может разобраться в семейных связях у южных шейеннов»[59]. Неясно, думал ли Гарленд, что сами шейенны не знают точно, в каких родственных отношениях они находятся друг с другом, но одно очевидно: он считал, что они, как и белые, будут благодарны за внедрение терминологии родства, проясняющей дело. Когда читаешь переписку и официальные циркуляры того времени, возникает ощущение, что реформаторы были убеждены: стоит лишь привести в порядок терминологию родства, и реальная жизнь коренных американцев скоро придет в соответствие с «цивилизованными» нормами белых[60].
Школы-интернаты
Самым наглядным проявлением цивилизационного проекта стала организация школ-интернатов для детей коренных американцев. Они создавались в соответствии с логикой «тотального» учебного заведения. Можно было методично добиваться небольших перемен, работая с массой коренных американцев в резервациях, а можно было сосредоточиться на выводе меньшего количества юных индейцев из-под «тлетворного» влияния племени и их размещении в контролируемой, дисциплинарной среде. Таким образом, проигрывая в масштабе, можно было обеспечить соответствующее усиление микроконтроля над жизнью учеников. В этих школах должно было происходить формирование новых элит с нуля, «по-пигмалионовски»[61] . Результаты также поддавались четкой оценке: столько-то выпускников, столько-то обучено английской грамоте, столько-то — ремеслу и др.
Подобно методам военных училищ, с которых они были скопированы, организация жизни в интернатах должна была обеспечивать шоковое воздействие и полную «переделку» личности. Одежда, в которой прибывали ученики, выбрасывалась, и взамен выдавалась униформа военного образца, рацион питания строился по западному образцу, волосы (зачастую важный культурный маркер) в принудительном порядке стриглись, раскраска лиц запрещалась, вводился жесткий распорядок дня, за разговоры на родном языке следовало суровое наказание, и, конечно, все дети непременно получали новые имена. Воспоминания одного сиу о том, как присваивались имена в интернате, передают атмосферу происходившего: «Получение новоприбывшим новой формы сопровождалось получением нового имени. Чаще всего это происходило в первый день обучения. Лютер Стоящий Бык вспоминает, что однажды они увидели на доске много странных надписей, и переводчик объяснил, что это „белые“ имена. Учеников по одному вызывали к доске, давали указку и приказывали выбрать себе имя. После этого учитель записывал имя на полоске белой ткани, которая пришивалась к рубашке ученика на спине. Когда пришла очередь Лютера Стоящего Быка, он взял указку и ткнул ею в доску, словно колол врага. К концу урока у всех мальчишек на спине красовались новые имена. Лютеру Стоящему быку пришлось выбирать только имя, а фамилию ему разрешили сохранить прежнюю — в переводе на английский. Но не всем ученикам выпала такая удача» [62].
Как это часто случается с утопическими схемами стандартизации, проект по переименованию коренных американцев осуществлялся хаотично. Зачастую какой-то орган власти утверждал имена, не учитывая результаты предыдущих переименований. Присвоение новых фамилий «по отчеству» в интернатах редко координировалось с процессом переименования в резервациях, где проживали отцы учеников, что создавало невероятную путаницу. Бывало, что у двух братьев, переименованных в ходе разных кампаний, фамилии тоже оказывались разными. Однако, как и на Филиппинах, через несколько десятков лет частота контактов с чиновничеством привела к появлению у большинства коренных американцев официальных имен, соответствовавших англосаксонским патриархальным нормам. На практике, впрочем, дело, как водится, обстояло по-иному.
Номера и систематизация: пример с инуитами
Примерно через полвека после приятия закона Дэвиса канадские власти решили провести идентификацию самой подвижной и «непрозрачной» части населения страны — инуитов. Благодаря наличию одного исследования
[63], посвященного этому вопросу, мы можем провести сравнение канадской затеи с созданием новых фамилий для коренных американцев в США. Сходства здесь куда больше, чем различий, а последние, судя по всему, связаны с более высоким уровнем развития и централизации федеральной администрации в Канаде.
У инуитов, как у многих индейцев Северной Америки, существовали практики именования, полностью соответствующие их собственным потребностям, но непонятные чиновникам, назначенным ими управлять. У большинства инуитов было только имя, которое к тому же на протяжении его жизни могло меняться несколько раз. Как и многие другие народы, инуиты верили в возможность умиротворения беспокойных духов умерших и потому старались как можно скорее дать имя покойного новорожденному ребенку. Гендерно окрашенные имена появились только в колониальную эпоху, и весьма часто инуиты давали дочерям имена недавно скончавшихся авторитетных мужчин, независимо от того, являлись ли те их близкими родственниками.
Для европейца имена инуитов звучали странно и казались непроизносимыми (например, Итукусук или Килабук); кроме того, как и в США, даже после принятия инуитами европейских или библейских имен фонетические различия превращали транслитерацию в весьма непростое искусство. Эти сложности были отмечены еще в 1935 году, задолго до появления предложений о переименовании всех инуитов. Чиновник, которому было получено отслеживать миграцию людей из одного региона Северной Канады в другой, в докладе Министерству внутренних дел сетовал: «Этому поселению подчиняется пять округов. Думаю, если бы я покинул его, чтобы опросить туземцев об их именах, выяснилось бы, что для каждого имени есть разные варианты написания... То, что в последние годы инуиты берут себе библейские имена, не облегчило нашего положения. Хороший пример в этом смысле — распространенное имя Рут. Речевые органы туземцев не в состоянии осилить букву „Р“ в начале слова. В результате, когда туземец называет имя ребенка, разные люди запишут его как „Врути“, „Олути“, „Алута“ и тому подобное. Для того, кто не знает этих людей лично, перечислить их в алфавитном порядке становится очень сложным делом»[64]. Проблема многовариантности транслитераций усугублялась наличием на местах нескольких административных органов. Так, имена могли самым экзотическим и разным образом записываться врачом на медпункте, Королевской конной полицией и дирекцией школы.
Подобно именам и топонимам коренных американцев, инуитские имена содержали краткую «сводку» отсылок — нарративов, которые, взятые в совокупности и в развернутом виде, представляли собой историю данной местности. Подобные имена «маркировали» местность и ее обитателей, создавая местную среду с четким порядком и богатым смыслом, которая, однако, оставалась в основном непонятной для посторонних. Проекты стандартизированного переименования мест и людей приводят как минимум к трем косвенным последствиям: они способствуют идентификации людей и контролю над ними со стороны внешних органов власти, включению той или иной местности в более масштабную систему региональных и общенациональных смыслов и, наконец, перекрывают, а зачастую и уничтожают местные системы ориентации. Такие затеи по систематической перекройке местной «картографии» призваны ориентировать некоторых акторов, как правило влиятельные госструктуры, и дезориентировать других. В то же время передача знаний за счет обобщенной «прозрачности» всегда является культурным проектом «внутреннего колониализма». В результате «упорядочение» номенклатуры понятий инуитов происходило параллельно с созданием школ-интернатов, запретом на инуитские ритуальные танцы, а в случае с инуитами Коппермайна — еще и на орнаменты на губах. Все это должно было превратить инуитов в «общенациональных» субъектов и граждан.
В отличие от правительства США 1890-х годов, которое в первую очередь интересовало «сдерживание» индейцев, их превращение в оседлый народ и установление юридического порядка, канадское государство после Второй мировой войны руководствовалось задачей оказания услуг населению не в меньшей степени, чем стремлением к созданию правовой идентичности людей. «Социальное государство» в Канаде только делало первые шаги, но уже было полно решимости охватить все население, в том числе «неуловимых» кочевников-инуитов, социальным и пенсионным обеспечением, семейными пособиями, профессионально-техническим обучением и медицинскими услугами. Подобное всеобъемлющее вмешательство требовало создания классификационной системы, способной выявить каждого гражданина.
С бюрократической точки зрения простейшая система идентификации — это присвоение серийных номеров. С ними ничто не может сравниться. При малейшей возможности администраторы отдают предпочтение арифметической красоте потенциально бесконечной серии последовательных номеров. Они моментально устраняют любую неоднозначность и произвольность, свойственные всякой системе фамилий. В частности снимаются вопросы о транслитерации не записывавшихся прежде имен (например, «Макартур» или «МакАртур»), и о том, какую часть имени считать фамилией (например, «Де ла Фонтен, Оскар» или «Фонтен, Оскар де ла»).
Вдохновленное примером армейских личных жетонов, Министерство внутренних дел поначалу разработало для «непрозрачных» инуитов систему жетонов (disk). На этих небольших кружках из прессованного волокна была напечатана корона, надпись «Удостоверение личности эскимоса — Канада», буква и номер, например E-6-2155. E-6 обозначало «Восточную зону, шестой район» — ту административную единицу на севере Канады, где этого инуита выявили, зарегистрировали и снабдили жетоном. Цифры 2155 представляли собой личный идентификационный номер (вроде номера карты соцстрахования в США), по которому чиновник мог найти досье, содержащее всю информацию, интересную государству (имя, прозвища, дату рождения, гражданский статус, сведения о прививках, уголовных наказаниях, пенсионном и социальном обеспечении и т.д.).
Администраторы планировали, что каждый инуит будет носить такой жетон на шее — для этой цели они изготавливались с дыркой для шнурка. Аналогии с военными опознавательными жетонами были вполне осознанными. В одной рекомендации, составленной в 1935 году, отмечалось: «Мое скромное предложение заключается в том, чтобы при регистрации ребенок получал удостоверяющий личность жетон вроде солдатского, который также следует носить постоянно. Эта новаторская система должна понравиться туземцам»[65] .
Эта данная аналогия не носит лишь внешнего характера. Военный личный жетон, как и опознавательный браслет, что выдают в больницах, носится постоянно именно с целью идентификации человека, который не может или не хочет назваться сам. Жетон предназначен для опознания погибших, находящихся без сознания или изуродованных до неузнаваемости солдат. Инуитский жетон, подобно солдатскому личному жетону, был задуман как средство, позволяющее посторонним отслеживать — в условиях неспособности говорить, смерти или осознанного сопротивления — людей и объекты, получившие такие порядковые номера.
Считалось, что инуиты — охотники и трапперы — не будут разглашать сведения о себе, поэтому их пометили как перелетных птиц, чтобы отслеживать их передвижение. Если бы технологии того времени это позволяли, чиновники без сомнения отдали бы предпочтение миниатюрным передающим электронным устройствам и GPS, чтобы следить за всеми перемещениями людей со спутников.
Введение системы жетонов рассматривалось как важнейший шаг по обеспечению благосостояния и развития инуитов [66]. Жетоны с номерами, раздававшиеся исключительно инуитам после переписи 1935 года, представляли собой основу для сбора всех важнейших статистических данных о здоровье, образовании, доходах, численности населения и преступности. В целях внедрения системы власти настаивали, чтобы эти номера использовались во всей официальной переписке и во всех свидетельствах о рождении, браке и смерти. Утверждения о том, что жетоны не нравятся инуитам[67] и любые альтернативные предложения отвергались сторонниками системы, призывавшими к ее более жесткому внедрению: «На мой взгляд, нет никакой необходимости в замене существующих идентификационных жетонов какими-либо медалями или жетонами. Я уже двадцать лет твержу: когда эскимосы поймут, что белые хотят, чтобы они выучили наизусть идентификационный номер и использовали его во всех торговых и иных трансакциях, они будут это делать»[68].
Действительно, лишь очень немногие инуиты носили свои жетоны на шее[69]. Многие канадские ведомства не настаивали на использовании номеров с жетонов в своих контактах с инуитами, и утопическая затея с единым идентификационным номером постепенно сошла на нет. Инуиты жаловались, что в школе их детей заставляют называть номер вместо имени, и в письмах, которые им приходят, в графе «адресат» зачастую указывается только номер с жетона.
Наконец, в 1969 году система жетонов была официально упразднена, и был создан совет из трех человек, которому было поручено зафиксировать фамилии инуитов и их правильное написание. Так родился проект Surname — ускоренная программа создания и/или регистрации фамилий для всех инуитов к 1971 году. Чиновники, для которых четкая идентификация имела первостепенное значение, выступали за сохранение жетонов — нечто иное приведет к «неприемлемой путанице» [70]. «Как быть с различным написанием одного и того же имени?» — спрашивали они. «Что делать с людьми, носящими одинаковые имена?» (Один чиновник указывал, что в Понгниртунге живут три женщины по имени Анниа Килабук.) «Как мы будем следить за людьми при их перемещении?» «Как мы поймем, что платим деньги именно тому, кому следует?»[71]
В отличие от номеров, фамилии нельзя было уложить в рамки четкой, понятной серии. В одной брошюре объяснялось, почему имена европейского типа выглядят предпочтительнее: инуитские имена труднопроизносимы, слишком длинны и слишком похожи друг на друга» [72]. Как это чаще всего случается со скоропалительными мероприятиями, реализация проекта отличалась хаотичностью, а уровень принуждения был довольно высок. Один чиновник заявил ошеломленным инуитам, что к концу дня, когда он уедет из их стойбища, все они должны иметь фамилии: «Я был в Бейкер-лейк... Там жили 800 человек. Это было как на конвейере... „У вас есть фамилия? Как звали вашего отца? Хорошо. Теперь вас зовут так-то и так-то“... В конечном итоге проект Surname создал просто ужасающую ситуацию»[73].
Внедрение серийных номеров и постоянных фамилий представляет собой цивилизаторские проекты. Но если присвоение номеров обладало духом высокой абстракции, то выбор фамилий, как и везде, косвенно являлся культурным проектом. Главная причина, по которой имена инуитов не отражали пол и отчество человека, заключалась в том, что у них не было стандартных, «нормальных» семей в европейском понимании этого слова (собственно, в таких семьях не жили и многие канадцы европейского происхождения!). Авторы административного отчета о проекте Surname, судя по их ворчливому тону, это осознавали. Они сетовали на «полное отсутствие у эскимосов понимания правовых, социальных и моральных аспектов имен... семейное имя или фамилия, которую носят все члены семьи, им неизвестны. Правовое использование имени, владение собственностью под фамилией невозможно... Брачные обычаи в смысле „западной цивилизованной этики“ у них так и не сформировались, поскольку семейная ячейка лишена единого имени, связывающего ее воедино. Громадные трудности создает усыновление детей»[74] .
Усыновление родственниками было весьма распространено среди инуитов, и имена многих детей отражали связь с приемными, а не биологическими родителями. Да и понятие «глава семьи», даже в качестве формального статуса, в жизни инуитов особого значения не имело. Стремление чиновников создать действенную систему идентификации и гарантировать, что социальные пособия попадут к тем, кому положено, то есть стремление бороться с мошенничеством, было вполне оправданно, но в основе проекта Surname лежали попытки сформировать у инуитов современную «канадскую идентичность» и стандартную, «нормальную» семью.
Естественно, эти меры не покончили с инуитскими практиками именования. Их результатом стало повсеместное разнообразие имен. У многих, а то и большинства инуитов, были теперь «официальное» имя европейского образца и одно или несколько не зафиксированных ни в одном документе инуитских имен, под которыми они были известны местным жителям. Таким образом, большинство инуитов перемещается между местной идентичностью со своими кодами и административной идентичностью, у которой также существуют свои коды. Мать одного новорожденного инуита объясняла: «Инуитское имя ребенка ни в какие записи не попадает. Но все его знают как другое имя человека... Так происходит и сегодня. Вот у моего малыша уже есть три разных имени, которые не будут указаны в его свидетельстве о рождении»[75].
Эти две сферы именования могут сосуществовать долго. Однако в отличие от инуитского «реестра» имен, канадский официальный реестр подкреплен аппаратом государства, армией, полицией и законом. Чем больше в жизни инуитов будут усиливаться необходимость и частота обращения к канадскому коду, тем прочнее станет практическое, повседневное господство фамилий европейского типа.
III. Имена и практическое господство государства
Если в промышленно развитых странах долгосрочные проекты повышения «прозрачности» распространяются на их самые дальние уголки, то в новых государствах, проводящих политику модернизации, постоянные фамилии вводятся впервые. В настоящее время, как мы покажем ниже, существуют и иные механизмы идентификации. Большинство из них отличается большей точностью, «прозрачностью» и эффективностью, чем присвоение «правильных» имен. Однако, изучая распространение «юридического» именования по всему миру, мы одновременно прослеживаем развитие режимов, строящих планы по мобилизации и/или улучшению положения населения.
Модернизационные проекты
Современная Турецкая республика, созданная Кемалем Ататюрком, вводила постоянные, «юридические» фамилии в рамках одного из самых масштабных проектов модернизации и вестернизации в истории. «Реформировав» исчисление времени и календарь, приняв метрическую систему мер, упразднив феодальные титулы, создав общенациональную систему гражданства и переписав свод законов, чтобы избавиться от влияния шариата, Ататюрк в 1934 году отдал распоряжение о присвоении туркам постоянных официальных фамилий
[76]. Для создания мощного современного государства требовалась четкая система налогообложения и воинской повинности, более совершенная, чем во времена Османской империи. Для выполнения этой задачи, в свою очередь, была необходима «прозрачная» персональная идентичность граждан. Однако, как мы уже видели на других примерах, обязательное присвоение постоянных фамилий было частью гигантского культурного проекта, призванного превратить Турцию в современную европейскую страну. В этих целях арабский алфавит был заменен латинским, начал делаться акцент на слова с урало-алтайскими корнями, фески и паранджи запретили, ислам был отделен от государства, а исламская десятина (закат) упразднена. Поощрялось принятие чисто турецких — а не исламских и особенно арабских — имен[77].
Радикальные изменения в правовой сфере было легче осуществить, чем «революцию» в практике именования. У турок (не говоря уже о многочисленных национальных меньшинствах) было много имен, некоторые из них могли меняться на протяжении жизни. На местах это не создавало путаницы, поскольку люди знали, как зовут их соседей, и при необходимости для устранения любых недоразумений могли добавлять к их именам «отличительные» прозвища. Новые имена долго сосуществовали с традиционными — особенно там, где контакты людей с государством носили эпизодический характер. Даже в центре введение новых фамилий — при тщательном и внезапном осуществлении — грозило посеять хаос в коммерческой и административной сферах. Подавляющее большинство граждан просто не знало новых фамилий своих знакомых [78], поэтому в течение 14 лет после указа о фамилиях, до 1950 года, в турецких телефонных книгах абоненты перечислялись в алфавитном порядке по именам, а не фамилиям. Впрочем, Турция в этом отношении не уникальна. Власти Таиланда, где постоянные фамилии внедрялись в 1950-х, также демонстрируют разумное уважение к значению практической информации. В телефонной книге Бангкока алфавитный список абонентов также начинается с имен, а не с фамилий.
Фиксация имен, фиксация идентичностей
Выше мы анализировали создание имен в качестве официальных правовых идентичностей только в контексте практик именования западного образца. Однако следует четко понимать, что «прозрачность» имен в качестве правовых идентичностей неотделима от любых управленческих проектов, требующих систематизированного вмешательства на местах. Поэтому противоречия между местными и внешними властями и вопросы «прозрачности», превалирующие в процессе присвоения имен, нельзя считать исключительно пережитками прошлого. Возьмем, скажем, правовые и политические проблемы, окружающие создание фиксированных идентичностей в сравнительно анонимном мире интернета. Создание интернетовских cookie-файлов для более эффективного отслеживания кибернетических идентичностей, попытки создать единую систему регистрации доменов и правовые реформы по распространению на интернет юрисдикции судов — все это представляет собой первые усилия по повышению «прозрачности» киберпространства.
Тем временем начавшийся уже давно процесс государственного строительства посредством именования продолжается — зачастую с новыми элементами, не связанными с Западом. В Китае, к примеру, под властью нынешнего режима оказалось множество народностей (по официальным данным их 56). У некоторых из них вообще нет традиции присваивать постоянные фамилии, представители других имеют по много имен и фамилий, а у третьих есть фамилии, но они не соответствуют ханьско-китайской практике. Стандартизованная административная система Китая так же мало способна воспринять экзотические имена национальных меньшинств, как в свое время Бюро по делам индейцев — понять, даже в переводе, имена кроу вроде «Ирви, Выходящий Из Тумана». Сталкиваясь с практиками именования, бытующими у народа качинов, живущего на юго-западной границе провинции Юньнань, китайские власти поступают так же, как в свое время Хэмлин Гарленд. Они ищут для имен качинов наиболее близкие стандартные китайские эквиваленты. О том, как эти имена вписывают в систему, рассказывает один этнограф с Тайваня: «Имена в официальных документах должны писаться китайскими иероглифами, поэтому фамилии, состоящие из одного слога, меняются на китайские (обычно те, что можно записать одним иероглифом). У зайва (одного из ответвлений народности качинов) существует распространенная и важная фамилия „Муйхой“, которой соответствует стандартная китайская фамилия „Хо“ (ее ношу и я сам)» [79].
Для многих представителей народа качинов, живущего изолированно, их переименование китайскими властями в «Хо» особого значения не имеет. Их ханьская административная идентичность используется лишь в тех немногих случаях, когда им приходится вступать в официальный контакт с государством (уплата налогов, регистрация контрактов, воинская обязанность, наследование имущества). В остальном, для повседневных дел, местных имен вполне хватает.
Таким образом, поначалу государственные системы именования могут почти не затрагивать граждан, чью идентичность они призваны зафиксировать. Разнообразие имен порой сохраняется веками: официальные государственные идентичности используются для одних целей, местные народные — для других. Не следует однако думать, что официальные и народные имена находятся в равном положении. В конечном итоге официальные имена подкреплены весом государства и его соответствующих институтов. В этом отношении поучительна концепция «паттернов движения» (traffic pattern) в том виде, как ее применяет к вопросам «государственной идентичности» Бенедикт Андерсон. «Паттерны движения» превращают воображаемые административные идентичности в устойчивые реалии социальной жизни. Так, в Индонезии голландские колонизаторы «квалифицировали некоторых жителей как китайцев [Chinezen], хотя они входили в обширную диаспору, чьи представители себя китайцами не считали» и не воспринимались в качестве таковых. Тем не менее голландские власти, формируя «этнический ландшафт» колонии, упорно создавали «все новые образовательные, судебные, медицинские, полицейские и иммиграционные структуры, основанные на принципе расово-этнической иерархии. Прохождение подчиненного населения через сеть различных школ, судов, клиник, полицейских участков и иммиграционных отделов создавало „паттерны движения“, со временем превращавшие фантазии государства в реальную социальную жизнь» [80].
«Просторечные» имена, как и «народные» идентичности, как правило не исчезают, но государственные системы именования обычно доминируют — по нескольким причинам, связанным с формированием современного национального государства. Государство может настоять на использовании человеком юридически закрепленного имени по всем официальным поводам, в том числе при регистрации рождения, брака и смерти, наследовании, юридическом оформлении контрактов и завещаний, уплате налогов и переписке с чиновниками. Соответственно, как мы убедились, чем выше частота контактов с государством и огосударствленными институтами, тем больше оказывается сфера общественной жизни, где применять можно только официальное имя. Возьмем, к примеру, свидетельство о рождении. Как и свидетельство о смерти, оно представляет собой важное новшество: даже на Западе до недавних пор людям «удавалось» рождаться и умирать без ведома чиновничества! Свидетельство о рождении — первый официальный документ, фиксирующий «правильную», юридически (на бумаге) закрепленную идентичность, и его выдача регулируется целым рядом правил. Так, принимаются меры для выбора ребенку подобающей фамилии в тех случаях, когда родители не могут об этом договориться: «Если ребенок находится под совместной опекой матери и отца, и они не могут договориться о выборе фамилии, в свидетельстве должна указываться фамилия, выбранная матерью, и фамилия, выбранная отцом, через дефис, алфавитном порядке» [81].
Отметим также, что нормальным, современным, институциональным местом рождения и выдачи соответствующего свидетельства является роддом, где при сборе статистических данных превалируют бюрократические методы «государственного типа».
Когда же большинство детей рождается дома, при помощи профессионалов или даже без нее, официальная регистрация новорожденных становится куда более сложным делом. Современные, формальные институты — это повивальные бабки создания и господства официальных фамилий. Господство контролируемых государством институтов, таких как школы, соцобеспечение, военная служба, налоги, регистрация и передача собственности, создает «паттерны движения», обеспечивающие преобладание государственных механизмов идентификации. Когда государственные институты способны обеспечить людям блага и ослабить, а то и отменить наказание, большинство граждан заинтересованы в том, чтобы их подобающим образом зарегистрировали. Таким образом официальная идентичность представляет собой «железную клетку», в которую загоняется немалая часть социальной жизни современного государства.
IV. «Народная» и государственная оптика
Центральное место в обеспечении институционального господства современного государства занимал проект по обеспечению обобщенной «прозрачности». Этот результат, достигнутый с большим трудом, вопреки упорному сопротивлению, потребовавший гигантских институциональных вложений в деятельность архивов и реестров, а также обслуживающего их персонала, представляет собой «каркас» информированности государства. Без этого всеобщего охвата, без поля зрения, которое он дает чиновникам, большая часть деятельности современного государства — от вакцинации школьников до ареста преступников (или политических противников) была бы невозможна.
В раннее Новое время государство имело дело с населением, чьи структуры владения землей, идентичность, доходы и состояние здоровья оставались в основном ему неизвестными. Причудливая смесь местных мер исчисления, прозвищ, обычного права и форм обмена не позволяла монархам мобилизовать ресурсы для ведения войн или общественных работ. Чиновники из центра как минимум были заложниками сотрудничества с местными властями, предоставлявшими им ту информацию, которую сами считали нужным. Выше мы проанализировали процесс внедрения постоянных фамилий в качестве важнейшего, пусть и рудиментарного элемента этого проекта по обеспечению обобщенной «прозрачности». В рамках более масштабного исследования постоянная фамилия заняла бы свое место среди множества других «оптических технологий» государства — стандартизации системы мер и весов, централизации законодательства, создания единообразных кадастровых карт и реестров собственности, унификации налогообложения, внедрения единой валюты и стандартного языка [82].
Каждый из этих проектов связан с процессом перехода власти и соответствующим изменением кодов. Понятно, что в виду возможностей государства этот переход был предрешен; понятно и то, что он встречал сопротивление. Социолингвисты любят говорить: «Разница между диалектом и общенациональным языком состоит в том, что общенациональный язык — это диалект, имеющий армию». Национальные государства, даже родившиеся в результате революции, не могли просто объявить о наступлении обобщенной «прозрачности»: ее надо было вводить принудительным путем. В 1791 году революционное правительство Франции потребовало от всех префектур предоставить данные «об имени, возрасте, месте рождения и жительства, роде занятий и иных способах обеспечения средств к существованию каждого гражданина, живущего на их территории» [83]. Соответствующую информацию прислали лишь три из 36 000 коммун в стране! Через десять лет наполеоновскому государству удалось добиться больших результатов, но это потребовало героических усилий по преодолению серьезного сопротивления.
Изменение кодов имеет важнейшее значение. И народные, и государственные системы, скажем, именования и измерения, представляют собой коды. Вопрос в том, у кого есть ключ к коду, кто может его расшифровать. В случае с народными системами именования, например у инуитов и коренных американцев, ключи от кодов находятся на местах, и зачастую, хотя и не всегда, используются демократическим путем, но для посторонних код остается «китайского грамотой». В рамках наиболее обобщенных форм идентификации — например, серийных номеров — ключ от кода оказывается в руках специалистов (чиновников, юристов, статистиков), но как правило этот код остается «китайской грамотой» для местных жителей, не работающих на государство. Таких специалистов можно назвать «следопытами», но отслеживают они обобщенные формы знания, присущие современному государству. Доступ к этим следопытам как правило зависит от политического влияния, финансовых ресурсов, либо и того, и другого.
Взгляд «с птичьего полета», который обеспечивают официальные проекты повышения «прозрачности», лучше всего расценивать как нейтральный инструмент, усиливающий возможности государства. Обобщенный взгляд сам по себе, конечно, ни в коей мере нельзя считать нейтральным — ведь он дает государственным чиновником привилегии и власть над местными жителями и субъектами. Однако он абсолютно нейтрален в смысле задач, для решения которых используется. Как мы увидим, с помощью этого инструмента можно осуществлять благое вмешательство — спасать жизни людей, повышать их благосостояние, — без которого современная жизнь просто немыслима. Но в то же время он усиливают возможности государства при осуществлении самых детальных и жестоких проектов, связанных со слежкой и репрессиями. Большая часть выполняемых задач находится где-то посередине между этими двумя крайностями: их выполнение несет в себе и благие, и тревожные последствия.
Возьмем для примера точную идентификацию людей за счет стандартной системы регистрации рождений. Эта возможность, наряду со сведениями о врожденных дефектах, хранящимися в больницах, некоторое время существовала в Норвегии и позволяла эпидемиологам довольно точно определять, с какой вероятностью мать, имеющая родовые дефекты, родит ребенка с врожденным дефектом [84]. Имея полные данные о почти 500 000 детей, родившихся в 1967–1982 годах (из них 8192 имели врожденные дефекты), исследователи установили: хотя вероятность того, что женщины с врожденными дефектами родят дефективного ребенка, несколько выше, чем у остальных, этот дополнительный риск невелик (1,4%) и связан только с передачей по наследству собственных дефектов. Данные выводы имеют очевидные последствия в плане совершенствования генетического консультирования и социальной политики, не говоря уже о решениях женщин относительно того, стоит ли им иметь детей. Но ни один из этих фактов не мог бы быть установлен статистическим путем без длительного сбора персональных данных, позволяющих выявить корреляцию между врожденными дефектами у матерей и их детей.
Тот факт, что побудительным мотивом масштабных проектов повышения «прозрачности» бывает похвальная забота о благе людей, со всей очевидностью проявился в недавней дискуссии относительно введения «медицинских опознавательных номеров» в США. Первоначально эта система мыслилась как гарантия того, что работники при смене места работы сохранят медицинскую страховку, но затем ее сторонники предложили ввести электронные коды для всех пациентов [85]. По словам председателя Национального комитета по демографической и медицинской статистике, такие коды «позволят точно идентифицировать каждого человека»[86]. Существующих процедур, утверждали сторонники новой системы, недостаточно. Имена не носят уникального характера: они меняются и пишутся по-разному, водительские права охватывают не всех и не обладают уникальностью, если речь не идет об одном штате, номера соцстрахования, хотя и обладают уникальностью, также охватывают не всех. Более того, существующая система медицинского делопроизводства обладает теми же особенностями, что и народные механизмы именования. Различные методы идентификации и компьютерные программы, применяемые в разных управленческих медицинских организациях, больницах, клиниках и у работодателей оборачиваются непонятным никому «диалогом глухих».
Работники плановых органов нашли чисто утопическое решение: снабдить каждого пациента полным и уникальным номером, содержащим дату его рождения, широту и долготу его родного города и дополнительные цифры, присваиваемые только данному индивиду. Другие предлагали ввести биомедицинские маркеры вроде отпечатка большого пальца, электронного скана сетчатки глаза или профиля ДНК. Преимущества этого гигантского упрощения административного механизма очевидны: все данные о пациентах можно будет отслеживать несмотря на смену ими врача или места жительства (и даже имени!); оптимизируется процесс оплаты за лечение, пациенты смогут быстро получить свои медицинские карты, и наконец, что немаловажно, у эпидемиологов появится общенациональная база данных, о которой они давно мечтали. Центру контроля над заболеваниями новая система обещала полную информацию о болезнях, которую не обеспечивает существующая отчетность больниц, практикующим врачам — возможность сравнить редкие диагнозы с такими же случаями по всей стране и узнать, какие методы лечения наиболее эффективны.
Противниками введения уникальных медицинских опознавательных номеров для всего населения стали те, кто сомневался в эффективности этой затеи в качестве проекта повышения «прозрачности». По их мнению система будет чересчур «прозрачной», в том числе для тех, кто захочет использовать ее в иных целях. Конфиденциальная информация о здоровье людей (в частности, о наличии у них ВИЧ) может быть передана работодателям, ее, в сочетании с данными о финансовом положении, можно использовать для шантажа, полиция с ее помощью будет отслеживать подозреваемых и свидетелей (лишая их тем самым возможности обращаться к врачу). Пациенты, считающие, что история болезни, где значатся депрессии, аборты или заболевания, передаваемые половым путем, может оказаться в базе данных, доступной их работодателям или кредиторам, будут бояться откровенничать с врачами [87]. После реализации любой проект повышения «прозрачности» оборачивается чрезвычайным усилением возможности «точечного» вмешательства со стороны всех, кто занимает информационные «командные высоты».
V. Заключение: модернизация идентификации
Точная идентификация людей, не говоря уже о реальном выявлении их местонахождения, по историческим меркам представляет собой весьма новое явление. В отсутствие всеобъемлющей стандартной системы регистрации населения максимум, на что могли надеяться государства раннего Нового времени, — это относительно точные переписи и кадастры, позволявшие взимать пошлины зерном, реквизировать лошадей и призывать солдат в армию. Спецификация индивидуальных идентичностей как правило ограничивалась местным уровнем, где государство оказывалось заложником тех, кто хотел с ним сотрудничать. Даже после введения постоянных фамилий произвольность их фиксации, стандартизации, дублирования, вариантов написания, не говоря уже о перемещении населения, превращала идентификацию человека вне места его постоянного жительства в трудоемкую задачу.
Мы можем составить нечто вроде приблизительного континуума методов идентификации в соответствии со степенью их «прозрачности», полноты и точности. На одном конце этой шкалы мы поставим, скажем, инуитов до введения жетонов и начала проекта Surname — группу населения, абсолютно «прозрачную» для посвященных на местах и в целом почти «непрозрачную» для посторонних. Введение постоянных фамилий, даже при всех отмеченных нами недостатках, представляет собой существенный шаг вперед. Стандартизация делопроизводства и написания в различных юрисдикциях, а также снижение дублирования имен превратили фамилию в довольно точный инструмент опознавания. В большинстве систем идентификации она остается первой составляющей (вспомним армейскую формулировку «имя, звание, личный номер»).
Следующий шаг — это уникальный идентификационный номер, классическим примером которого для США является номер социальной страховки. Там, где эта система охватывает всех граждан и координируется с другими данными (например, адресом, фамилией отца, девичьей фамилией матери, датой рождения), она обладает значительной точностью. Главный ее недостаток таков: если гражданин не хочет или не может назвать свое имя и «серийный номер», власти ничего не могут сделать. Во многих странах этот недостаток «прозрачности» пытались исправить за счет серьезных наказаний для граждан, отказывающихся предъявить свой внутренний паспорт или удостоверение личности представителям власти. Именно по этой причине первое, что говорит французский жандарм всякому, кого он останавливает, — это «Vospapiers, Monsieur» («Ваши документы, месье»). Одним из самых вопиющих примеров предписания всем гражданам носить с собой удостоверения личности была «пропускная система» в ЮАР в эпоху апартеида. В ее рамках пропуска использовались для санкционирования и контроля перемещения людей между городами и местами проживания белых, с одной стороны, и «туземными районами» — с другой. В других странах, например во Франции XIX века, пропускная система порой комбинировалась с данными о занятости (включая отметки работодателей) в livret de famille.
Изобретение фотографии в середине XIX века сделало возможной фотоидентификацию, а вместе с ней и снимки для полицейских досье[88] . Фотография чрезвычайно способствует постепенному устранению различных причин неверной идентификации, в дополнение к нескольким другим формам опознания — имени, номеру социальной страховки и подписи. На память сразу приходят плакаты «Разыскивается преступник», которые ФБР размещало в американских почтовых отделениях, — с фото в профиль и анфас, указанием имени, клички, роста и веса, воспроизводением отпечатков пальцев подозреваемого и упоминанием места, где его последний раз видели. Впрочем, для большинства целей, не связанных с уголовным преследованием, имени, удостоверения личности с фотографией, номера соцстрахования и подписи оказывается вполне достаточно.
Следующим методом, который, кстати, возник намного раньше, чем современное государство, является нанесение на тело человека нестираемых «маркеров». Эта практика также эквивалентна документальному подтверждению идентичности: не носить опознавательный знак на своем теле вы не можете. Татуировки, к примеру, использовались в Сиаме в доколониальную эпоху примерно так же, как клейма для скота, — чтобы указать, от кого простолюдин находится в крепостной зависимости. Подобно увечьям, которые использовались в других странах для обозначения преступников, беглых рабов или крепостных — например, отрезание уха или нанесение шрамов особого вида, — татуировки указывали не столько на личность человека, сколько на его принадлежность к определенному классу, почти всегда в унижающей индивида форме. Такие знаки, более постоянные, чем любая одежда, подобно сословному законодательству, делали социальное положение их носителя «прозрачным» для любого наблюдателя. В принципе, постоянные знаки, например татуировки, могут стать основой для точной идентификации. Достаточно указать, что в свое время канадские власти для удобства подумывали о татуировании сведений с жетона на теле инуита.
Важнейшее преимущество нестираемого идентификационного знака на теле человека связано с тем, что опознание в этом случае не требует доброй воли последнего. Достаточно его физического присутствия, и личность будет установлена независимо от его желания. Большинство наиболее современных форм идентификации — а потому и наиболее предпочтительных для чиновников — позволяют установить личность с абсолютной точностью. К ним относятся биомедицинские маркеры, например, отпечатки пальцев, сканы сетчатки глаза и профили ДНК [89]. Профиль ДНК позволяет идентифицировать человека даже долгое время после его смерти — образец ткани, взятый у трупа, пролежавшего 2000 лет в вечной мерзлоте, дает ту же самую абсолютно уникальную ДНК-подпись.
Недостаток всех перечисленных методик заключается в том, что для идентификации они требуют физического присутствия тела человека. Однако в полицейской работе результат зачастую достигается за счет успешного розыска подозреваемого или свидетеля, чья личность уже известна. Сегодня уже не столь фантастическим кажется переход от отпечатков пальцев и профилей ДНК к электронным браслетам, передающим сигналы спутнику GPS, что позволяет полиции в любой момент точно знать местонахождение любого интересующего ее человека, подобно тому, как натуралисты и экологи отслеживают передвижения отдельных особей из мигрирующих видов. В рамках пенитенциарной системы США подобные методы тотального контроля уже скоро будут реализованы для некоторых правонарушителей, получивших условно-досрочное освобождение или работающих за пределами места заключения.
Возможности, которые дает госчиновникам полная «прозрачность» общества за счет тщательного внедрения мер по идентификации населения, намного превышают все, на что было способно государство в раннее Новое время — хотя воображение администраторов рождает и не такое. На деле главное различие между государством того периода и современным заключается именно в наличии у последнего с трудом завоеванной территории обобщенной административной «прозрачности» — географии, людей, собственности, товаров, коммерции, здоровья и навыков населения, — делающей возможным осуществление масштабных мобилизационных и преобразовательных проектов [90]. С наибольшей наглядностью это проявилось в проектах по массовому уничтожению людей в XX столетии. Эффективная депортация большинства амстердамских евреев (65 000 человек) в лагеря смерти в период нацистской оккупации была бы невозможна, если бы дело происходило в начале XIX века. Но подобная облава стала возможной благодаря наличию подробнейшей и всеобъемлющей системы регистрации населения, где указывались имена, адреса, этническая и религиозная принадлежность людей, подкрепленная точными картами. Карта, составленная Статистическим управлением Амстердама в мае 1941 года, носила название «Распределение евреев по муниципальной территории». На ней каждая черная точка обозначала десять евреев, и становилось совершенно ясно, в каких кварталах можно задержать большую часть еврейского населения[91].
В более контролируемой обстановке — например в концлагерях — схемы обощенной «прозрачности» можно было реализовывать с беспощадной полнотой. Само по себе словосочетание «концентрационный лагерь» представляет собой краткое обозначение системы насильственного удержания и регламентации жизни людей на резко ограниченном пространстве, что позволяет неусыпно следить за ними, добиваясь почти полной «прозрачности». В Освенциме на левой руке всех евреев и цыган татуировались серийные номера — в том порядке, как они прибывали в лагерь. Горстку заключенных, выживавших в лагере смерти долгое время, называли «старыми номерами» (то есть с небольшими числами)[92]. Для обозначения подгрупп заключенных был выработан сложный цветовой код. Помимо известной звезды Давида, пришивавшейся на груди и левой штанине одежды заключенных евреев, существовала серия разноцветных треугольников (вершиной вниз), также носившихся на одежде, чтобы принадлежность заключенного была ясна с первого взгляда — коричневый для цыган, зеленый для «уголовников», красный для «политических преступников», розовый для гомосексуалистов, сиреневый для свидетелей Иеговы, синий для эмигрантов и черный для «асоциальных элементов». На поверках заключенных выкликали по номерам, а не по именам.
Немало аналогичных методов концентрации, идентификации и контроля лежит также в основе так называемых гуманитарных интервенций. Оперативные процедуры в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) — наглядный пример того, как методы, сравнимые с возможностями государств по обеспечению «прозрачности» социального ландшафта, можно использовать для предоставления убежища жертвам террора и/или снабжения продовольствием голодающих мирных жителей. В «Практическом руководстве для полевого персонала» (раздел «Регистрация») подытоживается опыт работы с беженцами за последние пятьдесят лет[93]. Один из основных терминов в инструкции звучит как «фиксация населения» и обозначает подсчет, концентрацию и идентификацию людей, которыми «занимается» УВКБ. Для этого требуется замкнутый (хотя и без колючей проволоки с током) периметр с одним, легко контролируемым входом и выходом. По прибытии беженцам вручаются «идентификационные жетоны», затем, если ситуация позволяет — браслеты и временные удостоверения личности. Все эти документы снабжены серийными номерами, облегчающими приблизительную перепись контингента. И браслеты, и удостоверения имеют номера от одного до двадцати четырех или тридцати, которые можно компостировать, подобно железнодорожным билетам, при получении беженцем вещей и продуктов, в зависимости от установленного кода. Одна из задач браслетов и удостоверений — не допустить двойной регистрации и мошенничества, другая — выявить наименее защищенные группы (например, женщин с новорожденными детьми, стариков и больных), чтобы уделить им особое внимание. Наряду с жилыми помещениями казарменного типа, строящимися упорядоченно и имеющим обозначения по «секциям, блокам, индивидуальным местам», удостоверения личности обеспечивают более или менее полную перепись людей по месту их проживания в лагере. Это также облегчает поиск отдельных людей, нуждающихся, скажем, в особой медицинской помощи или питании, или обладающих навыками, полезными для жизни лагеря.
Последние технические достижения упрощают и повышают эффективность организации лагерей. Использование компьютерных, считываемых лазером штрих-кодов на браслетах и удостоверениях позволяет сотрудникам лагеря более эффективно следить за беженцами и распределять между ними продукты питания[94]. В 1999 году волонтеры из компании Microsoft были направлены в лагеря беженцев на границе с Косово для разработки стандартных, оцифрованных и снабженных фотографией удостоверений личности, которые должны были выдаваться всем их обитателям. Целью было создать единую, мгновенно доступную базу данных, позволяющую людям, среди прочего, разыскивать родственников и друзей, которых они потеряли при поспешном бегстве.
Несмотря на абсолютно различное назначение концлагерей и лагерей беженцев, несмотря на то, что в первых для выполнения задач постоянно применяется насилие, «адресное» управление большим количеством неизвестных людей требует методов обеспечения «прозрачности», происходящих из одного корня. Поэтому тем, кто не считает, что по этическим и философским соображениям государство не должно иметь таких «паноптических» полномочий, — и соответственно должно отказаться от связанных с ними преимуществ (как для Центра по контролю над заболеваниями) и угроз (тотальных этнических чисток) — остается лишь кормить Левиафана и надеяться приручить его с помощью демократических институтов.
Статья написана в соавторстве с Джоном Техренианом и Джереми Мэтиасом
Источник: Scott J.C., Tehranian J., Mathias J. The Production of Legal Identities Proper to States: The Case of the Permanent Family // Comparative Studies in Society and History. Vol. 44. № 1 (January 2002). P. 4–44.