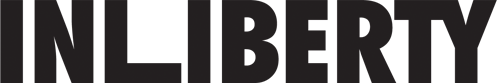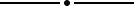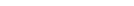С аэропортами все обернулось плохо. Времени в полете мы сегодня проводим примерно столько же, сколько несколько десятков лет назад, но до взлета его теперь тратится намного больше. Процедуры безопасности не только отнимают у нас время: они оборачиваются большими финансовыми затратами, испорченным настроением, вызывают недовольство — и все это имеет далекоидущие последствия.
Когда я был ребенком, моя семья — как и многие другие — часто ездила в ресторан аэропорта, пусть даже кормили там плохо. Побыть рядом с самолетами — одно это доставляло удовольствие большее, чем любые кулинарные изыски. Путешествия всегда волновали людей. Доказательства этого мы находим в поэзии, прозе, музыке — особенно с тех пор, как появились быстрые и надежные транспортные средства, прежде всего самолеты. Путешествие по воздуху взывает к одному из сильнейших человеческих стремлений — отправиться в путь, ввысь и вдаль. Итальянская песня «Volarе» («лететь») удостоилась двух премий «Грэмми» и в 1958 году возглавила чарт «Billboard». «Лети со мной» — вторил ей Фрэнк Синатра: так назывался его весьма популярный альбом, вышедший в том же году. Щекотало нервы и ощущение риска — летать тогда и вправду было опаснее, чем сейчас. Чтобы успокоить и отвлечь пассажиров, авиакомпании творили чудеса — предлагали горячие обеды даже на коротких рейсах, сдабривали их коктейлями, закусками из креветок и улыбками хорошеньких стюардесс. Кроме того, провожающих и встречающих пропускали в зону посадки: порой, чтобы пожелать человеку доброго пути или поприветствовать его, там собирались большие и оживленные компании.
Пока в 1973 году американские власти, напуганные серией угонов на воздушном флоте, не начали вводить ограничительные меры, люди заходили в аэропорты с той же легкостью, с какой мы сегодня заходим в супермаркет. Путешествие по воздуху воспринималось как праздник, позволяло почувствовать себя частью «летающей элиты» (jet set). Меры безопасности были столь либеральны, что люди могли передавать свои билеты другим и меняться ими — главное, чтобы пол соответствовал имени, на которое он выписан. Это помогало быстро и легко решать немало бытовых проблем — к примеру, «я не могу полететь к ним на свадьбу, лети ты вместо меня». На «улетной» (в буквальном смысле) студенческой вечеринке в детройтском аэропорту одной из парочек должны были вручить билеты (на подставные имена) в совершенно неожиданное для нее место — с вылетом в ту же ночь. Зная о таком сюрпризе, все участники явились на вечеринку уже с багажом. На борту самолета тоже можно было вдоволь повеселиться, невзирая на правила. Однажды я летел в составе большой группы — компания по торговле бытовой техникой организовала выездную конференцию преимущественно развлекательного свойства, — и мы уговорили экипаж допустить одного из нас, развеселого Сэма Мосса, оптовика от производителя телевизоров «Зенит», к интеркому: в полете он развлекал пассажиров песенками и скабрезными анекдотами. Славные были деньки, друзья мои!
Ближе к нашему времени открытость аэропортов сослужила добрую службу людям, стоящим в социальной иерархии намного ниже торговцев бытовыми приборами. Аэропорты стали убежищем для бездомных. По данным социолога Кима Хоппера, некогда в аэропортах буквально жили сотни людей — и это было для них удачным решением по множеству практических причин[1]. Зимой там топят, а летом работают кондиционеры. Там есть водопровод, есть душевые кабины, которыми редко пользуются. Кроме того, в аэропортах всегда найдется бесплатная еда — то, что выбрасывают рестораны или в спешке оставляют пассажиры. Наконец, люди нередко спят в залах ожидания — что позволяет бездомным отдохнуть, не бросаясь в глаза. Вот только теперь без посадочного талона вас в аэропорту никуда не пустят. Бездомные занимали свободные места, а безопасность не терпит свободных мест.
Напряженность путешествий
Итак, современный режим безопасности способствует превращению праздника в утомительную нервотрепку. Поездка всегда несет с собой волнения — независимо от правил безопасности. Людям тревожно: доберутся ли они вовремя в аэропорт, успеют ли на стыковочный рейс, не задержится ли вылет, не будет ли путаницы с посадочными местами — а ведь есть еще и всяческие смежные с самим полетом обстоятельства: заказ гостиницы, аренда автомобиля, назначенные встречи. И все это пронизано общим беспокойством, связанным с оторванностью от дома, от привычных атрибутов нашего быта и личной жизни.
Собирая вещи в дорогу, мы пытаемся смягчить резкость перемен. Мы упаковываем «частичку дома» — раздумываем, какую одежду взять с собой, как втиснуть в чемодан всякие личные мелочи, стараемся не забыть лекарства. Многие авиапассажиры пакуют багаж со всей тщательностью — складывают вещи так, чтобы они не помялись, заворачивают подарки, чтобы те не разбились, заботятся, чтобы важные документы не намокли и не перепутались. Люди стараются захватить все, что может понадобиться. Безалаберность может обойтись дорого — чтобы купить или одолжить вещи, которые мы забыли, придется терять драгоценное время и деньги, и это если вы вообще сможете найти им замену. Особенно много волнений связано с ручной кладью — туда мы помещаем самое ценное, и службы безопасности проверяют ее внимательнее всего. От чего-то приходится отказываться, учитывая ограничения по размерам и весу багажа. Все эти тревоги делают человека еще уязвимее при личной встрече с машиной безопасности.
Стандартизация личности
Каждый из нас собирается в путь по-своему, а вот публичные институты «заточены» под единообразие. Любая публичная инфраструктура — особенно если в ее работу вовлечены несколько разных ведомств, если к ней подключается бизнес, — требует единых стандартов и в материальном выражении, и в организационном аспекте. Дорожное движение может быть либо правосторонним, либо левосторонним. И вопрос не в том, какая сторона правильная, а в том, чтобы все ездили одинаково. Появление железных дорог потребовало единой ширины колеи по всему континенту. А для авиаперевозок необходимы единые минимальные размеры взлетно-посадочной полосы, все авиастроители их учитывают[2]. Кроме того, наличие инфраструктуры предполагает, что люди действуют по установленным правилам: авиапассажиры должны пройти регистрацию у правильной стойки, не перепутать зал ожидания и выход на посадку, получить багаж в установленном месте, и так далее. Габариты ручной клади должны соответствовать размером багажной полки. Пассажирам следует благоразумно освобождать проходы, когда бортпроводники разносят еду. Впрочем, в рамках перечисленных стандартов люди имеют право выбора — по какой дороге ехать, куда лететь, что выбрать на обед в самолете — курицу или пасту.
Как указывает Джеймс Скотт в своем основополагающем труде, государство «видит» мир через призму контроля над ним — поэтому насаждает единообразие и определенный пиетет перед властью[3]. И тут не только предписания, по какой стороне дороги ехать: развиваясь, государство, подчас не столь прямолинейными методами, принуждало людей к определенным действиям — исключительно ради лучшей управляемости. Так, оно потребовало, чтобы у людей были имя и фамилия, — в средневековой Европе, как правило, обходились одним именем, — а затем и удостоверение личности (вроде номера социальной страховки в США). Эти новшества позволили отличать людей друг от друга в целях налогообложения и армейского призыва.
Государственное мышление требует стандартизировать человека и перед рамкой металлоискателя. Каждого пассажира, его поведение и имеющиеся у него предметы нужно разложить на составляющие, получая на выходе условные единицы, которыми можно манипулировать[4] Практически это система разметки, причем подвижной: например, имеет ли значение этническая принадлежность человека — и если да, то какая? Что за предметы можно везти в ручной клади — разрешены или нет маникюрные ножницы? Если детское питание жидкое, то каков дозволенный объем? Пассажиры и служащие должны держаться в курсе и соответствовать.
Особые затруднения, естественно, возникают из-за различий между людьми — как физическими, так и биографическими: в этом мы убедились в предыдущей главе, говоря о метро, турникеты которого совершенно напрасно рассчитаны на «стандартного» пассажира. Многие способы поведения и варианты образа жизни встречаются часто и поддаются систематизации, но в жизни человека всегда есть место случайности и своеобразию. Люди могут везти с собой странные предметы: шуточный подарок другу, лабораторную работу школьника или художественную инсталляцию с торчащими во все стороны трубками и проводами. Самые невероятные и неправдоподобные поступки совершают влюбленные или просто те, чьи обычаи непривычны для инспекторов. Так, в 2010 году в аэропорту Бирмингема (штат Алабама) у службы безопасности вызвал подозрение уроженец Йемена, летевший в Амстердам: он сдал в багаж чемодан, где обнаружился мобильный телефон, примотанный скотчем к флакону с лекарством от расстройства желудка, и еще несколько мобильников, примотанных к часам. Его задержали «по подозрению в подготовке теракта»[5]. Американцы действительно не везут из-за границы такие вещи, но двоюродный брат задержанного, живущий в Детройте, объяснил: «такова наша культура». Йеменцы зачастую покупают за рубежом подарки практического свойства для родных и знакомых. При большом скоплении людей просто по теории вероятности может случиться что угодно[6].
Правила системы
Ваше противостояние системе безопасности начинается еще на въезде в аэропорт, с предупреждающих знаков «стоянка перед терминалом запрещена» — ограничение, чреватое неудобствами, например, для человека, который привез в машине забытый другим чемодан и должен дождаться, пока тот выйдет из здания аэропорта и заберет его.
Теперь двинемся дальше, к стойке регистрации. Служащие авиакомпании изучают ваши документы и задают вопросы, связанные с безопасностью, — на них надо отвечать правильно. Вот, например, каковы обычные вопросы — и возможные ответы на них, которые давать не следует (я взял их из одного анонимного блога)[7] :
— Кто-нибудь просил вас взять какие-то вещи в самолет? (Да, моя мать и моя девушка.)
— Кто-нибудь просил вас положить свои вещи в ваш багаж? (Да, я положил рубашку жены, у нее в чемодане не осталось места.)
— Вы сами укладывали чемодан? (Нет, это сделал мой дворецкий Альфред, но он совершенно не опасен.)
Правильный ответ — не означает правдивый. Это означает, что вы говорите то, что нужно, чтобы попасть в самолет и чтобы сотрудники отстали от вас и занялись другими пассажирами. Конечно, в наши непростые времена найдутся люди, которые действительно опасаются, что, не сказав правды, они рискуют попасть под арест, — вопреки здравому смыслу, они выложат все как на духу и тем самым задержат очередь. А кто-то другой — возможно, плохо зная английский, — не сможет уловить нюансы вопроса и тоже даст правильный — то есть, пардон, неправильный ответ. Но всем и каждому придется отнестись к этим переговорам всерьез — и, по возможности, правильно солгать.
Следующий вклад в предотлетную напряженность вносит компьютер — неважно, при посредничестве ли сотрудника авиалиний или напрямую при самостоятельной экспресс-регистрации. Если он завис, или ваше имя оказалось «в списке», или произошел какой-то минутный сбой — ждите неприятностей[8].
Дальше нас ждет пункт досмотра и, если дело происходит в США, сотрудники Управления по безопасности на транспорте (Transportation Security Administration, TSA). Здесь вам снова надо предъявить удостоверение личности, на сей раз вместе с посадочным талоном. Много раз мне приходилось видеть, как люди держат свои документы (к которым потом будут прикасаться другие) в зубах, потому что руки заняты. А как-то я наблюдал, как девочка-подросток выбросила пустую бутылку из-под воды в корзину, промахнулась, затем — с приготовленным для досмотра ноутбуком в руках — побежала туда, где упала бутылка, подобрала ее и наконец опустила куда следует. Сотрудник TSA кричал ей, чтобы она оставила все как есть, но девчушка его не услышала. Шум, неразбериха. Такие маленькие драмы разворачиваются у каждой рамки металлоискателя. Пассажиры суетятся, возятся с вещами, не понимают, что к чему, а служащие тем временем напоминают им, что надо снять, куда положить, и поторапливают очередь. Люди пересказывают друг другу эти указания и спорят, правильно ли они расслышали и как их понимать. Можно ли положить оба ноутбука в один лоток для сканирования? Надо ли стоять смирно и ждать сигнала, чтобы двинуться вперед, или проходить просто так, вместе с женой и ребенком? А учитывая разнообразие аппаратуры сканирования, установленной TSA на некоторых пунктах досмотра, надо еще и понять, к каким воротам идти, где стоять и как держать руки в том или ином устройстве. В самых «передовых» камерах системы “Rapiscan” — той модели, что встречалась мне лично (подробнее см. раздел «Эскалация сканирования: руки на теле»), — пока луч сканера «прощупывает» ваше тело, вы держите бумажник над головой, а на выходе передаете его сотруднику TSA, который проверяет его ручным детектором. По крайней мере именно так все было, когда я столкнулся с этим устройством: меня просто ошеломило указание держать бумажник над головой. Что это еще за «руки вверх»? Впрочем, вопросов я задавать не стал.
Неудобство и озабоченность, вызванные неразберихой, усугубляются чисто физическими затруднениями. Каждый пассажир сам «кантует» свой багаж, тащит его вперед и ставит на ленту устройства. Большие проблемы возникают с обувью. Даже абсолютно здоровому человеку непросто ее снять, если у вас ботинки на шнурках, высокие кроссовки или, как у рабочих и туристов, тяжелые сапоги. Затем мы теряем наши вещи из вида, — ими распоряжаются сотрудники TSA, — и нам приходится неуверенно ждать, когда они вновь возникнут перед нами на ленте. Это своего рода мгновение «тотального института». В знаменитой концепции Эрвинга Гоффмана «тотальные институты» — тюрьма, армия, психиатрическая лечебница — отличаются от всех прочих тем, что даже малейшие движения людей находятся под административным надзором. Однако, по сути дела, все мы сталкиваемся с учреждениями, для которых характерна та или иная степень тотальности, и для многих из нас система безопасности в аэропортах — самая «тотальная» среда из всех, с какими мы встречаемся во взрослой жизни[9]. Она характеризуется еще и определенным уровнем произвола: где-то требуют снимать ремни, где-то нет, где-то обувь кладут в лоток, где-то на ленту (или, как в Европе, вообще не позволяют остаться в ней), где-то вам нужно снять куртку, а свитер можно оставить, если он не «эквивалентен куртке» (что бы это могло означать, кстати?).
Когда вы снимаете обувь, ваше тело непривычно соприкасается с не предназначенными для этого поверхностями — в голове всплывает ассоциация с необходимостью сесть на унитаз в общественном туалете. Но в данном случае речь идет о вполне реальной опасности. Босые ноги с куда большей вероятностью разносят по полу аэропорта споры грибка, чем сиденье унитаза распространяет инфекцию. В главном аэропорту Москвы пассажирам при прохождении досмотра раздают полиэтиленовые бахилы. Но они не спасут от случайно оказавшихся на полу предметов: скрепок, карандашей, кусков проволоки и кнопок, способных оцарапать вам ноги. Мой нью-йоркский коллега Джеймс Джаспер однажды так проколол ногу булавкой от значка с флажком США, оброненного каким-то патриотом.
Прохождение досмотра напоминает о тюремных порядках не только необходимостью подчиняться, но и стандартизацией оборудования и жесткими правилами его использования. Так, лотки для верхней одежды и ноутбуков предназначены только для временного размещения этих вещей. В такой лоток нельзя, к примеру, посадить младенца, чтобы немного отдохнуть или скрасить вашему малышу ожидание, прокатив его в лотке, как на санках. Лоток нельзя переворачивать, чтобы поддеть ногой с пола. И забрать его с собой после прохождения досмотра, чтобы использовать как поднос в ресторанном дворике, вы тоже не можете.
Закупки используемых при досмотре мелких предметов образуют многомиллиардный рынок — и, однако, по сути это типовые изделия, кое-как приспособленные для работы служб безопасности. Так, лотки для одежды — это слегка переделанные ресторанные подносы для уборки грязной посуды. Поначалу именно такие подносы и покупались — у них на нижней части даже была штамповка «Rubbermaid®». А чашки для ключей и монет ведут свое происхождение от посуды для пикников и собачьих мисок. До недавнего времени — по крайней мере, в небольших аэропортах — столы и подставки, на которые вы ставите чемоданы, были складными, вроде тех, что расставляют при необходимости в школьных холлах. А в некоторых аэропортах используются столы, предназначенные для ресторанных кухонь. Сегодня, когда дизайн какой-нибудь открывалки для пива на все лады обсуждается фокус-группами, знатоками эстетики, специалистами по эргономике, дизайнерам не удается приложить руку к оборудованию аэропортовских зон досмотра. Механистический, нацеленный на контроль за людьми подход легко пренебрегает как удобством вещей, так и приятностью их вида, являя потребителям воинствующее отсутствие дизайнерской мысли.
Конечно, все это различается от города к городу и от страны к стране. В США досмотр, судя по всему, жестче и требовательнее, чем в большинстве других государств. В некоторых аэропортах, если судить по блогам и рейтингам, постоянно жалуются на грубость персонала (Франкфурт), в других, наоборот, отмечается дружелюбие и эффективность (Стокгольм) — в обоих случаях речь идет как о системе безопасности, так и о других службах. В австралийском Сиднее, судя по всему, родным и друзьям до сих пор разрешается встречать и провожать пассажиров в зоне посадки (хотя для этого людям надо пройти контроль службы безопасности). Я знаю по своему опыту, что в аэропортах Нью-Йорка сотрудники покрикивают на пассажиров, а в более благовоспитанных уголках планеты — например, в Ванкувере или в Санта-Барбаре, где я часто бываю, — такого не случается.
Мы постепенно усваиваем эти «ритуалы» — пока откуда-то сверху не поступит новый указ. Все знают: если у вас в багаже оказался канцелярский нож, вы застрянете на досмотре надолго. Но практикуется и более тщательный досмотр случайно выбранных пассажиров. Я слышал, как охранник кричит коллеге: «У меня случайный!». Пассажир на досмотре старается не выделяться, чтобы на него не обратили внимания, — точно так же, как едущий в метро рабочий, который просто хочет поскорее попасть домой. Большинство людей знают правила — какие вещи куда класть. Но то, что нам приходится при этом думать и делать, все равно чрезвычайно странно, хоть мы к этому и привыкли.
Пассажиры всегда начеку. Они следят за теми, кто стоит в очереди за ними, и внимательно смотрят, как продвигаются те, кто впереди. На основе долгих наблюдений за поведением людей в ходе досмотра в аэропортах Оле Пютц описывает, как их бдительность проявляется на практике[10]. Когда охранник велит приблизившемуся пассажиру снять ремень (заметив металлическую пряжку), те, кто стоят за ним, тоже снимают ремни, даже если в этом нет необходимости (то есть металлические детали отсутствуют). Аналогичным образом, одна женщина сняла свои очки с диоптриями, когда охранник попросил стоящего перед ней человека снять темные очки (это предписано правилами, тогда как обычные очки снимать не требуется). Охраннику пришлось сказать, чтобы она вновь надела очки, иначе ее примеру последовала бы вся очередь, внимательно приглядывающаяся к тому, что происходит впереди. В зоне досмотра, на переднем крае государственного контроля, люди отбрасывают свое любопытство и стремление понять, как устроен мир, и отдаются слепому подчинению.
Если ты рассеян, это задерживает других пассажиров и раздражает сотрудников службы безопасности. Наша забота о других соответствует административной задаче — чтобы мы были сосредоточены. Мы соглашаемся, что наши вещи исчезают из вида и досягаемости и даже могут быть перепутаны с другими. Для меня, и я наверняка не один такой, главный предмет беспокойства — мой ноутбук. Меня одолевают мрачные мысли: вдруг его перепутают с чьим-то похожим, повредят в спешке, или я даже сам его уроню, когда буду забирать. Мой коллега Дуглас Гатри рассказывал: как-то он с ужасом увидел, как сотрудник службы безопасности, думая, что лоток с его компьютером пуст, швырнул его на стеллаж, так что ноутбук выпал и свалился на пол. Слава богу, все кончилось благополучно.
Люди нервничают, смутно подозревая, что среди их вещей может оказаться что-нибудь в том или ином отношении незаконное. Легкий наркотик или остатки «травки»? Порнография? Фаллоимитатор? Политически некорректные, расистские, фашистские или оскорбительные для религиозных чувств материалы? Протез? «Исламистская» литература? Многим из нас есть что скрывать, даже если мы не замышляем теракт. Если у вас есть что-то «скандальное», вы надеетесь, что выглядите совершенно обычно — особенно во время этого, по сути дела, обыска: стараетесь смотреть куда-то в пространство, но не встречаться глазами с тем, кто проверяет ваши вещи[11]. Как и возле писсуара в общественном туалете, здесь важно кое-куда не смотреть — или делать вид, что туда не смотришь. Ваше волнение — вполне официальный повод для подозрений.
Ваша оплошность — скажем, вы забыли вытащить из одежды что-нибудь металлическое, — может привести к более тщательному осмотру: охранники обследуют ваше тело портативным металлодетектором или отведут вас в сторонку для «личного досмотра». Предмет, который вызвал сигнал тревоги, возможно, обнаружится не сразу, и тогда вас начнут уже досконально обыскивать. По случайному выбору или по непонятному вам принципу служба безопасности может открыть вашу ручную кладь, рыться в ваших вещах или вытащить их. У одного моего коллеги таким образом выудили из сумки зубную щетку, держа ее не за рукоятку, а прямо за щетину. Сотрудник службы был в резиновых перчатках, но до этого прикасался в них ко многим другим вещам. Коллега оказался перед дилеммой — искать по прибытии новую щетку (в отель он должен был заселиться поздно вечером) или плюнуть на то, что предмет, который оказывается у него во рту, побывал в руках у другого человека.
Перед всем этим нагромождением сложностей и треволнений нам не на что и не на кого опереться. Стремясь избавить и процедуру, и используемую технику от неясностей и излишеств, чиновники «отключают» человеческие чувства и поведенческие способности, которые могли бы быть весьма полезны. Пассажиры, конечно, помогают друг другу, но от тех, кто несет за это дело ответственность, помощи не дождешься. Даже если у сотрудников нет аврала, пассажиры все равно предоставлены самим себе. Каждого из них служба безопасности воспринимает как потенциального нарушителя, владельца флакона с шампунем, который может быть смертельно опасен, если его объем превышает лимит в 100 мл. В других профессиях люди не только делают свою работу. Подавая вам еду, счищая зубной камень или продавая товар, они не поскупятся на доброе слово, а то и дадут полезный совет по самым разным вопросам: порекомендуют хороший спортзал или удобную бензоколонку, расскажут рецепт вкусного блюда. Работник сферы услуг может даже ободряюще похлопать клиента по плечу или помочь успокоить капризного ребенка. Официант в ресторане или продавец в магазине одежды способен помочь с громоздкими сумками и пакетами, если клиенту трудно с ними управиться. Однако установленный в аэропортах режим подавляет это инстинктивное стремление помочь, поделиться тем, что знаешь, — оно, надо полагать, свойственно и сотрудникам службы безопасности, но у них нет возможности его проявить.
А еще людям свойственно шутить, в том числе и с посторонними. Но в зоне досмотра с юмором надо быть поосторожней. Особенно следует остерегаться даже самых безобидных шуток насчет огнестрельного оружия, ножей и бомб. В 2009 году один тридцатилетний мужчина, летевший на собственную свадьбу из Сент-Луиса в Вашингтон рейсом авиакомпании United, на вопрос стюарда, не нужно ли ему что-нибудь, ответил: «Нет, все в порядке. Взрывчатка уже у меня в ботинке». Этого пассажира сняли с рейса и задержали, предъявив уголовное обвинение. Его невеста объясняла журналистам: «Он у меня парень умный, но любит подурачиться»[12]. Похожий случай произошел в аэропорту JFK: полиция арестовала пилота Air France за такую же шутку о взрывчатке в обуви, и парижский рейс был задержан на двенадцать часов. Официальный представитель Управления безопасности на транспорте заявил корреспонденту New York Times: «Подобные высказывания мы всегда принимаем абсолютно всерьез»[13]. А между тем это как раз всегда сложный и неоднозначный вопрос: что в словах и поведении человека указывает на его преступные намерения — или не указывает на них.
Возьмем случай с 27-летним мужчиной, осужденным в Великобритании за твит — о том, что он «взорвет к чертям» аэропорт, если тот в ближайшее время не откроется после снегопада. Этот пассажир направлялся на встречу с женщиной, с которой познакомился в интернете, и был вне себя, поскольку его рейс отменили уже после того, как он оказался в зале вылета. Через несколько дней, случайно увидев его пост, представитель администрации аэропорта сообщил в полицию. Стражи порядка задержали «злоумышленника» прямо на работе, допрашивали восемь часов, конфисковали его компьютеры и телефоны. Суд признал его виновным в создании «угрозы» по британскому закону о транспорте и приговорил к штрафу в тысячу фунтов. Сам осужденный «преступник» объяснял: «Люди, с которыми я общаюсь и работаю, постоянно говорят что-то подобное, вроде: “Не принесешь мне кофе через минуту — я тебя убью”», и добавил: «Лично для меня совершенно очевидно, что это была просто гипербола»[14]. Однако из-за судимости этот человек был уволен с работы. Он устроился на другое место, но не сообщил при этом о приговоре, и снова был уволен, когда работодатель узнал о его «преступном прошлом». Социолог Аарон Сикурель называл этот тип ситуации «досье убивает»[15]. Речь идет о скрытом эффекте любых систем безопасности: они умножают количество потенциальных нарушений, которые затем, благодаря современным информационным технологиям, преследуют человека даже в тех сферах, к которым вся проблематика обеспечения безопасности никак не относится.
Глухая и неразумная, основанная на страхе система скармливает людей аппарату принуждения и официально превращает их в отщепенцев. А ведь на самом деле любое высказывание может быть правильно понято только в контексте. Даже слово «убить», а возможно — именно оно в особенности, требует правильного толкования. В ходе истории с осужденным англичанином широко цитировались слова его приятеля-студента, полные тревоги: «Это мог быть любой из нас. Буквально все, кого я знаю, говорили или делали в интернете что-то, что может быть квалифицировано как преступление — если только кому-то придет в голову так на это посмотреть». Дело о взрыве аэропорта на некоторое время стало излюбленной темой для шуток в твиттере — уж пользователи твиттера знают толк в путях и способах выражения экспрессии. Они начали постить новые «угрожающие твиты»: «Я взорву всю вселенную этим гигантским пузырем жвачки», «Думаю, я взорву парламент... да, кстати, это ШУТКА»[16]. Шутка — не только естественный элемент любой культуры: она вполне может служить источником информации, если ей это позволяют. Шутка исподволь обнаруживает скрытые намерения и потаенные смыслы — в том числе совершенно безобидные.
В США запрет на веселье достиг и системы департаментов автомобильного транспорта (Department of Motor Vehicles, DMV). Это и всегда была весьма серьезная служба, но теперь некоторые штаты недвусмысленно запрещают улыбаться — по крайней мере, на фотографиях. К 2009 году в четырех штатах США приняты постановления, что на снимках, подаваемых вместе с заявкой на водительские права, улыбок быть не должно. Очевидно, компьютерные программы распознавания людей требуют единообразных фото, и, в отличие от семейных альбомов, избранный стандарт не включает улыбку. Для эффективной идентификации граждан необходимы стандартно выглядящие граждане — подобно тому, как автоматическое оборудование общественных туалетов и других объектов требует граждан стандартно действующих (смыв автоматически включается, если человек несколько раз привстает с унитаза; впрочем, так же он реагирует на слишком маленьких детей). В DMV веселье на наших лицах угрожает установленному порядку. Для сотрудников авиационной службы безопасности терпимость по отношению к юмористически настроенным пассажирам была бы одобрением и оправданием неприличного и недостойного поведения, противного такому серьезному делу, как перемещение в установленном порядке из точки А в точку Б. Стандарты работы, принятые службами безопасности, подразумевают единый и неизменный подход для всех — и это, помимо прочего, еще и послание от Власти, напоминающей, что с ней — не шутят.
Эскалация сканирования: руки на теле
Аппарат Rapiscan, разработанный подрядчиками TSA и устанавливаемый в аэропортах по всей стране, позволяет видеть на экране тело каждого пассажира, проходящего через пункт досмотра. Эта картинка отображает весь наружный контур тела, в том числе очертания грудей и пенисов[17]. Оператор, просматривающий изображения, отгорожен от рамки аппарата и, как нам говорят, не может видеть самого человека, проходящего через устройство. Власти утверждают, что они не сохраняют изображения пассажиров и по просьбе последних могут заменить сканирование полным личным досмотром, который, по желанию досматриваемого, может проходить в отдельном помещении. Но если вы вошли в зону безопасности, закон обязывает вас пройти одну из этих процедур. Человек не может покинуть аэропорт (что было возможно при досмотре в метро), поскольку это позволило бы потенциальным террористам сбежать.
Некоторым людям этот досмотр с «виртуальным раздеванием» не нравится — несмотря на заверения чиновников, что ни их самих, ни их подчиненных эти изображения нисколько не интересуют. Я не знаю, что именно проверяют сотрудники безопасности на транспорте и какие данные сохраняют. Не приходилось мне слышать и пересудов о физических особенностях пассажиров. Как происходит наблюдение и обмен информацией в любых службах безопасности, не знает никто — по той простой причине, что эта деятельность недоступна для исследователей. Но есть хорошее исследование Клайва Норриса и Гэри Армстронга, которые почти 600 часов отслеживали в режиме реального времени работу центров наблюдения на трех коммерческих объектах в Великобритании[18]. В частности, они обнаружили, что операторы, хотя бы от скуки, оживляются, когда видят нечто возбуждающее, особенно красивых женщин или что-то связанное с эротикой. В таких случаях они подзывают друг друга к экранам и еще раз прокручивают запись камеры.
Таким образом, беспокойство пассажиров, что и с их изображениями может произойти нечто подобное, нельзя считать необоснованным: как и в уже разобранном нами случае с туалетными кабинками, здесь сталкиваются две противоположные задачи — обеспечить людям приватность и одновременно контролировать происходящее. Властям нужно видеть то, что люди считают глубоко интимным. И вновь решение оказывается неуклюжим — в данном случае назначается наблюдатель, который, подобно врачу, «видит, но не замечает».
Ссылаясь на неприкосновенность личности, житель Сан-Диего по имени Джон Тайнер отказался проходить и сканирование, и личный досмотр. Поставив во время досмотра свой мобильный телефон на запись, он зафиксировал свои разговоры с двумя инспекторами TSA в аэропорту Сан-Диего. Приведем расшифровку этой записи, прозвучавшей в эфире CBS[19]:
Сотрудник TSA: Кроме того, мы проведем обыск паховой области. Для этого я помещу одну руку на внешнюю часть вашего бедра, другую — на внутреннюю, и медленно проведу сначала вверх, потом вниз.
Тайнер: Понятно.
Сотрудник TSA: И если вы хотите, чтобы личный досмотр проводился в особом помещении, это тоже возможно.
Тайнер: Но если вы дотронетесь до половых органов, я потребую, чтобы вас арестовали. Не понимаю, почему без сексуальных домогательств меня не пустят в самолет.
Сотрудница TSA: это не считается сексуальным домогательством.
Тайнер: Только потому, что вы работаете на правительство.
Сотрудники TSA не пустили Тайнера на борт самолета. Он покинул зону безопасности, не пройдя досмотра, за что мог понести уголовное наказание (сведений о том, что ему предъявили обвинение, у меня нет).
Конечно, Тайнер не единственный, кто недоволен чрезмерным вмешательством государства в частную сферу. Консервативные политики и либеральные публицисты жалуются на эту систему или как минимум высмеивают ее. Однако социологические опросы на данную тему не дают однозначного результата. Опрос CBS в 2010 году показал, что 81% респондентов одобряют ужесточение мер безопасности[20]. В том же году опрос ABC/Washington Post дал другую цифру согласных — 64%. Одновременно половина участников этого опроса выразила мнение, что «усиленный» личный досмотр — это слишком[21]. Процент недовольных выше среди тех, кому летать приходится часто[22].
Для кого-то главная проблема здесь — нарушение гражданских свобод. Другие опасаются накопительного воздействия небольших доз радиации из металлодетекторов и просвечивающей аппаратуры — озабоченность в связи с этим высказывают и некоторые ученые[23]. Третьи полагают, что полный личный досмотр в любом случае неэффективен. Если контрабандные химические вещества (и даже твердые предметы, например, бритвенные лезвия) разместить вдоль тела по бокам, действующее сейчас оборудование их не обнаружит, — утверждают ученые, опубликовавшие статью в Journal of Transportation Security[24]. Аналогичным образом, если пластиковую взрывчатку поместить в естественные отверстия человеческого тела, ее не обнаружить ни при физическом обыске, ни при сканировании. А в будущем, с учетом минитюаризации, станет возможным имплантация взрывчатки в какой-нибудь из крупных внутренних органов (одно сообщение из Саудовской Аравии о реальном случае подготовки теракта подобным способом, судя по всему, оказалось ложным)[25].
Впрочем, какой бы несовершенной ни была техника и сколько бы затруднений эти процедуры ни создавали людям, я видел и слышал, как многие в зонах досмотра горячо одобряют происходящее. Они с гордостью и энтузиазмом принимают каждое из этих унижений, считая, что «вносят свой вклад» в борьбу с террором. Возникает ощущение, что для них чем больше таких унижений, тем лучше: ведь они «осознают» всю «важность» мер безопасности. Эти люди смотрят на жизнь глазами своего государства.
Распределение эффектов
В соответствии с принципом дифференциации последствий в зависимости от социальных и экономических условий, на практике некоторые категории людей испытывают больше затруднений в связи с системой безопасностью в аэропортах, чем другие.
Ограниченные возможности
Люди с ограниченными возможностями — а это очень широкая категория (см. гл. 2), куда входят маленькие дети, престарелые, больные, инвалиды, а также те, кто о них заботится, — испытывают в зоне досмотра особые сложности. Так, большими издержками оборачиваются длинные очереди — правда, кое-кто из перечисленных имеет официальное право в них не стоять. Людям с металлическими имплантами в теле, как правило, приходится проходить личный досмотр, причем такой обыск требует особых навыков, чтобы не оскорбить и без того «уязвимого» человека. Был, например, такой вопиющий случай: охранник пренебрег предупреждениями пассажира с уростомным мешком — и моча из мешка залила тело и одежду несчастного путешественника[26].
Гендерное неравенство
Как и в случае с общественными туалетами, традиционно не отвечающими потребностям женщин, система безопасности больше благоприятствует мужчинам. Масса проблем возникает с младенцами, неважно, в колясках или без, а малыши чуть постарше отделяются от родителей — им нельзя вместе проходить через устройство сканирования. Вообще в американских аэропортах для малышей нет
ничего — не могу не припомнить, по контрасту, небольшое отделение банка рядом с моим домом в Швеции, оборудованное детским уголком с гигантским конструктором «Лего», чтобы дети могли поиграть, пока взрослые заняты своими делами.
А теперь снова об обуви: женские колготки не так прочны, как носки, а многие пассажирки и их не носят. У женщин больше вещей в принципе, и больше вещей, которые для них важны: помимо косметики, это могут быть гигиенические салфетки, противозачаточные средства, всяческая косметика, пеленки и игрушки для детей. А еще у них есть ювелирные изделия, порой весьма дорогие в финансовом или эмоциональном смысле. Женщины, как показывают исследования, болезненнее, чем мужчины, воспринимают то, что чужаки роются в их вещах. Дамские сумочки — это, по выражению Кристины Нипперт-Энг, «островки приватности», их с особой тщательностью оберегают от посторонних[27]. Кроме того, как утверждает по меньшей мере одна моя приятельница, просторные платья свободного покроя становятся поводом для личного досмотра. Как и туалетные кабинки с полноразмерной дверью от пола, такие платья не позволяют взглядом оценить картину.
Кроме того, у женщин больше предметов, которые надо снимать при досмотре — и неясно, куда их при этом помещать. Так, их бюстгальтеры порой снабжены металлической проволокой, чтобы приподнимать грудь. А однажды женщину, носившую колечко на соске, угрозами заставили снять его при помощи плоскогубцев, поскольку охранники отказались производить визуальный осмотр, чтобы убедиться в его наличии[28]. В некоторых религиях существуют жесткие правила относительно «скромного» поведения женщин, в том числе предписания, какие части тела должны быть прикрыты одеждой. Женщины во многих случаях жалуются на «сексуальные домогательства» охранников, которые их «ощупывают»[29]. Женщины, отказывающиеся пройти рентгеновское сканирование, могут столкнуться с более серьезными задержками, особенно в небольших аэропортах, где работает меньше охранников женского пола, способных провести личный досмотр. И хотя совершенно ясно, что женщины (как христианки, так и мусульманки) с куда меньшей вероятностью, чем мужчины, могут быть замешаны в терроризме и иных действиях, связанных с насилием, — никаких поблажек по гендерному признаку им не дается. «Величественное лицо закона», как замечал ровно по такому же поводу Анатоль Франс, одинаково применяется и к мужчинам, и к женщинам, без каких-либо привилегий[30].
Наконец, как и в случае с туалетами, система безопасности в аэропортах основана на презумпции гетеросексуальной ориентации — как пассажиров, так и охранников. Чтобы исключить возможность сексуального домогательства, личный досмотр проводят охранники одного с пассажиром пола. Однако как пассажир, так и охранник, независимо от их пола, могут быть гомосексуальны (или, напротив, испытывать гомофобные чувства), так что близкое соприкосновение с представителем собственного пола может их существенно задевать.
Классы и иерархии
В крупных аэропортах для пассажиров, летящих бизнес- или первым классом (либо имеющих другие привилегии), существует отдельная очередь на досмотр. Она всегда короче. Тем самым система безопасности обостряет классовые различия, а не сглаживает их за счет равных для всех неудобств. Те, кто имеет право пользоваться ВИП-залом авиакомпании (будь то Red Carpet Club в United, «Магарджа» в Air India или «Династия» в China Air), получают возможность оставлять в нем багаж без присмотра, невзирая на вечные предупреждения службы безопасности. В самолете пассажирам первого или бизнес-класса, скорее всего, не придется выслушивать замечания стюардов о том, что их багаж при взлете и посадке расположен неправильно: на полу, а не под сиденьем кресла впереди.
Владельцам или арендаторам частных самолетов вообще не надо проходить досмотр — хотя и среди них может оказаться террорист. TSA даже не размещает своих сотрудников на многих терминалах, обслуживающих частные самолеты — так называемую «авиацию общего назначения». Значит, и те, кто арендует большие лайнеры — Боинг-757 или 777, способные, при их захвате в воздухе, причинить много бед, — могут свободно проходить через терминал в обе стороны. Когда главе TSA Джону Пистолу задали вопрос об отказе TSA досматривать таких пассажиров, он ответил (в интервью корреспонденту Atlantic Monthly Джефри Голдбергу), что эта категория путешественников представляет меньше опасности, чем люди, летающие регулярными рейсами. И добавил, что «пользователи авиации общего назначения кровно, в том числе материально, заинтересованы в наших правил[31]. Это прозрачный намек вполне проясняет, отчего клиенты частной авиации избегают обычных процедур проверки. Во время Гражданской войны в США вполне законно существовала система, при которой богач, столкнувшийся с армейским призывом, мог нанять «заместителя» и за деньги отправить его служить вместо себя — этой возможностью воспользовалось немало известных американцев, в том числе будущий президент Гровер Кливленд. Такие люди и сегодня откупаются от обременительных обязанностей гражданина.
Временами в качестве предлога для обуздания «обнаглевших» пассажиров используется внешняя угроза. У авиакомпаний давно уже существует проблема: пассажиры эконом-класса пользуются туалетами в бизнес-классе. Много лет по громкой связи передается указание: все пассажиры (как богатые, так и бедные) должны ходить только в туалеты своего салона. После терактов 11 сентября это объявление было дополнено словами «по соображениям безопасности». Но порой, как мы показали в главе о туалетах, у людей возникают безотлагательные потребности, вступающие в противоречие с классовыми прерогативами и правилами безопасности. Однажды за такое нарушение пассажиру пришлось заплатить двухдневным арестом. В 2009 году на рейсе авиакомпании Delta из Гондураса в Атланту одному пассажиру эконом-класса срочно понадобилось в туалет, но путь, по его словам, закрывала тележка с обедами. Поэтому он направился в бизнес-класс (признаюсь, я и сам иногда так поступаю). Стюардесса выставила руку, пытаясь преградить ему дорогу. По словам пассажира, он схватил ее за руку, чтобы удержать равновесие; сама стюардесса назвала это актом насилия. В результате этому человеку было предъявлено обвинение в оскорблении действием, и ему пришлось провести двое суток в тюрьме, прежде чем дело рассмотрел окружной суд[32]. Посещение туалета в буквальном смысле стало преступлением федеральной юрисдикции. Конечно, если бы этот пассажир летел бизнес-классом, он не попал бы в такую переделку: вот лишнее свидетельство — если вы не принадлежите к привилегированному меньшинству, вы более уязвимы перед лицом власти.
Легче всего увидеть систему привилегий там, где рутинные процедуры предполетного контроля могут создать трудности для тех, кто «заслуживает» особого отношения. Часто летающие бизнесмены, например, по формальным признакам могут напоминать потенциальных террористов, а значит — сталкиваться с подозрениями и задержками. Покупка билета в последний момент, или в один конец, или отсутствие багажа — все это может выдавать как террориста, так и просто богача, кочующего между разными офисами и домами, где у него есть запас одежды и личных вещей. Таким богачам не нужен ни багаж, ни обратный билет.
Ради решения этой проблемы разрабатываются списки «доверенных пассажиров», «зарегистрированных путешественников» или «системы гарантированного вылета» (можно провести аналогию с EZ-pass — системой безналичной оплаты поездок по скоростным автодорогам); несколько таких программ сейчас проходят тестирование в некоторых американских аэропортах. Для тех, кто входит в списки, организуется отдельная очередь и сокращенная процедура досмотра. За это они платят — в качестве вероятного размера взноса называется сумма в 100 долларов в год[33] . Исследование корпорации RAND, связанное с проработкой одного из вариантов такой программы, показывает, как устроено системное выделение привилегированной группы пассажиров (в отличие от ее формирования явочным порядком при каждой регистрации на рейс)[34]. Вот по каким критериям пассажира признают не представляющим опасности:
проверка по досье национальных агентств (ФБР и т. д.);
отсутствие уголовного прошлого (отпечатков пальцев нет в базе данных);
подтвержденные сведения о стабильной занятости за длительный срок;
подтвержденные сведения о прочных общественных корнях;
подтвержденные сведения о финансовой обеспеченности без необъясненных отклонений от обычной динамики;
история прошлых поездок, соответствующая истории занятости;
рекомендации от работодателя.
Так же, как и вступительный взнос, подобные критерии дискриминируют тех, кто находится на низших ступенях социальной и профессиональной иерархии: у них вероятнее и какой-то криминал в прошлом, и перебои с занятостью, и недостаток «общественных корней», под которыми в таких случаях понимается членство во всяких организациях и прочая социальная активность. Дискриминации подвергаются и те, кто по добровольно выбранному образу жизни меньше соответствует общепринятой норме — богема, хиппи и вольнодумцы. А между тем попадание в базу данных в статусе «не соответствующего требованиям» — это тоже ярлык, и не факт, что снимаемый. Пострадают прежде всего люди, не обладающие возможностями или смелостью, чтобы бороться за включение в список «надежных». И если в этот список войдут все предположительно «добропорядочные граждане», то для остальных само невключение будет наказанием — даже если они и не собирались подавать заявку. Уместно повторить, кстати, что пассажиры частных самолетов не обязаны соответствовать каким бы то ни было критериям: их напрямую избавляет от любых проверок тугой кошелек.
Надо принять во внимание и интересы самих сотрудников структур безопасности — а это в подавляющем большинстве выходцы из рабочего класса. Да, система досмотра дает им работу. Но им приходится иметь дело с недовольными людьми, недружелюбно относящимися к тем, кто их проверяет. Многим сотрудникам на самом деле не нравится обыскивать людей — они считают, что это унизительно не только для пассажиров, но и для них самих. И создавать стрессовые ситуации для других им тоже не доставляет удовольствия. Один мой близкий друг стал очевидцем такой истории: когда пожилой женщине при проходе через Rapiscan велели поднять руки, она заплакала и начала уверять, что «ни в чем не виновата». Двое сотрудников TSA бросились ее успокаивать; по словам моего свидетеля, их самих расстроила эта ситуация.
При этом TSA, как и все Министерство внутренней безопасности (DHS) в целом, ссылаясь на особые нужды безопасности, лишает своих сотрудников профсоюзной защиты. Собственно, борьба с профсоюзами и была одной из целей затеи с обособлением МВБ. Федеральные служащие, чьи права прежде были защищены профсоюзами, остались без защиты по итогам объединения их ведомств в МВБ в 2002 году. Администрация Обамы сняла запрет на деятельность профсоюзов в Министерстве, но сотрудникам по-прежнему запрещено требовать повышения зарплаты, льгот, пересмотра контрольных и дисциплинарных нормативов. Как заметила официальный представитель TSA, «безопасность — не предмет для переговоров». Но даже ограниченный допуск профсоюзов в подразделения TSA не устраивает критиков справа. Так, президент консервативного фонда Heritage Foundation сетует на то, что — в то время как главной задачей TSA «должна быть защита американцев, защита страны и народа», — «если сотрудникам TSA будет позволено объединяться в профсоюзы, их внимание переключится с этой задачи на жалобы типа “у меня слишком короткий обеденный перерыв”... Все это лишь отвлечет их от главного»[35].
Этнические и расовые аспекты
Что бы ни говорили власти, главным объектом дискриминации в системе безопасности становятся «арабы». Все мы знаем, что в обыденной жизни, где этический императив не столь суров, люди различают друг друга по внешним признакам. В расовом отношении это означает, что чернокожий за рулем рискует больше, чем белый: даже официальная статистика проверок на дорогах не оставляет сомнений в том, что недоброжелательного внимания полиции удостаиваются прежде всего черные молодые мужчины[36]. И, конечно, приходится верить свидетельствам людей с ближневосточными фамилиями и (условно) ближневосточной наружностью, что в полетах они сталкиваются с особыми затруднениями. Вот выразительный симптом этой глубокой, всепроникающей проблемы: одного молодого человека пустили на рейс авиакомпании Jet Blue только при условии, что прикроет чем-либо надпись на футболке: «Мы не будем молчать», по-английски и по-арабски[37]. Вряд ли подобные сложности возникают в связи с манерой одеваться или содержанием надписей. Наш молодой человек надел рубашку поверх футболки, прошел на борт, а затем отсудил у компании 240 000 долларов в качестве компенсации.
Похоже, между тем, что попытки предугадать преступника — на основе этнической принадлежности или каких-либо других свойств — не повышают нашей защищенности от преступлений, а напротив, делают нас более уязвимыми: к этому выводу приходит признанный и неустанно бдительный эксперт по вопросам безопасности Брюс Шнейер[38]. Поскольку в результате этих попыток возникают «официальные» категории подозрительных лиц, злоумышленники могут использовать это в своих целях. Если усиленной проверке подлежат пассажиры первого класса, террорист купит билет в эконом-класс. Если путешественники с маленькими собачками освобождаются от полного сканирования, террорист заведет чихуахуа и пройдет с ней досмотр. Категоризация потенциальных преступников перенацеливает внимание на не слишком сообразительных нарушителей — и выводит из-под подозрений изощренных заговорщиков. Да, возможно, так легче поймать неумелого дилетанта — а большинство задержанных службой безопасности именно таковы, — но как раз опыт этих задержаний и показывает, что никаких априорных категорий тут не нужно, дилетант выдает себя сам. И если не отказывать заранее в доверии каким-либо группам людей, то безопасность никак не пострадает, а демократические нормы будут соблюдены.
Но и куда более рутинная практика службы безопасности дискриминирует представителей некоторых этнических групп — пусть и непреднамеренно. Так, японцы с ужасом относятся к любому соприкосновению своего тела с поверхностями, по которым ходят посторонние, — они, например, никогда не присаживаются на ступеньки. Предписание снимать обувь для людей из тропических поясов планеты, носящих сандалии или шлепанцы на босу ногу, оборачивается большей опасностью, чем для тех, у кого на ногах носки. Крики и суматоха особенно неприятны людям, не привыкшим к этому в обыденной жизни, так что досмотр в аэропорту чреват более сильным стрессом для представителей наиболее деликатных полинезийской или скандинавской культуры — и, возможно, да простится мне мое невежество, каких-то еще культур, утверждающих тишину и сдержанность в общении как важные ценности. Пассажиры, не знающие английского, не понимают, что от них требуется, и лишь больше нервничают, рискуя потерять вещи и документы.
Бессилие
Службы безопасности в таком количестве сосредоточены именно в аэропортах не потому, что здесь их работа наиболее действенна, а, прежде всего, потому, что здесь ее легче организовать[39]. В условиях предположительного характера любых мер безопасности контроль у выходов на посадку выглядит как нечто осуществимое. Самолет как средство перевозки людей замечателен своей отдельностью, проход в него с неизбежностью достаточно узкий, и пассажиров несложно сгруппировать для проверки. Такие логистические возможности предопределяют, в том числе, места расположения службы безопасности внутри аэропорта — даже если такое расположение в итоге создает толкучку, которой иначе бы не было. Дополнительные вопросы на регистрации замедляют движение и заставляют людей скапливаться в одном месте. Пункты досмотра усиливают эффект, порождая плотные толпы — или змеящиеся очереди — пассажиров, еще не прошедших проверку на наличие оружия. Они представляют собой готовую цель для терактов, созданную самой системой безопасности: количество людей в этих очередях больше, чем число пассажиров в любом самолете.
Специалистам по безопасности хорошо известно: с особым усердием защищая какой-либо объект от злоумышленников, вы переводите удар на другую, более доступную цель. Для отдельного человека или фирмы такое перенацеливание угрозы вполне приемлемо — особенно если новым объектом становится, скажем, конкурирующий банк или ресторан. Но если речь идет об объектах общественного назначения, отводить удар таким образом бессмысленно — пассажирам и их близким неважно, погибнут они до или после прохождения досмотра. Мне приходилось обсуждать этот вопрос с бывшими высокопоставленными чиновниками TSA, вышедшими в отставку, — и они признавались, что эта проблема приводит их в отчаянье: способов ее решения не видно.
Насколько я знаю, гигантский аппарат безопасности в аэропортах не предотвратил ни одного происшествия или злодеяния: заслон террористам ставится другими методами — разведкой или действиями на борту самолетов. Каждое новое ограничение для пассажиров возникает как ответная мера против приемов, примененных в уже состоявшемся теракте. Список запрещенных для провоза предметов все растет, а с ним растут сложность и длительность проверки каждого пассажира. Поэтому, как сообщает один из докладов RAND Corporation, необходимость отслеживать все больше деталей и поведенческих особенностей рассеивает внимание инспекторов TSA, снижая их готовность замечать даже очевидные признаки угрозы[40].
Более того, скука, которую испытывают охранники на дежурстве, может привести к «атрофии бдительности», по выражению социолога Уильяма Фрейденберга[41]. Это явление хорошо описано для исследователей, работающих в лабораториях, и устроено так же, как износ любого оборудования, чья эффективность со временем снижается, соответственно влияя на результаты экспериментов. Там, где основное «оборудование» — живой человек, происходит то же самое: об этом свидетельствует, в частности, высокая текучесть кадров, не падающая и после передачи системы безопасности в федеральное ведение[42].
В классических исследованиях конвейерного труда показано, как работники варьируют ритм выполняемых заданий, забегая вперед или догоняя предметы, ползущие мимо них по ленте[43]. А Джозайя Хеймэн наблюдал, как патрульные на границе порой превращают поимку людей с незаконными грузами в игру, соревнуясь друг с другом — кто сегодня схватит больше «злодеев»? Отчасти эти игры — реакция на монотонность работы, но одновременно они вписываются и в общие организационные задачи службы, как их понимают сами сотрудники[44]. Своего рода «игровые стратегии» вырабатывают и служащие метрополитена — например, захлопывая дверцы турникета перед буйного вида молодежью, дабы не допустить ее на свою станцию и сохранить бесперебойное и беспроблемное движение поездов. Инспекторы в аэропортах, как мы знаем из доклада Reason Foundation, «выбирают для личного досмотра (после прохода через сканер) больше пассажиров, чтобы обеспечить себе желаемую трудовую нагрузку»[45]. Они тоже приспосабливают официальные предписания к практическим условиям своей работы.
В некоторых случаях аэропортовские охранники просто манкируют своими обязанностями. Один пассажир, летевший из Абу-Даби некоторое время назад, рассказал, как сотрудники службы безопасности покинули свой пост, чтобы покурить, предоставив пассажирам свободно проходить через него. В аэропорте Аккры — и наверняка некоторых других — охранники «облегчают проход» за небольшую сумму. Показания сканеров их не волнуют. В 2010 году в аэропорту Ньюарка сотрудник TSA, охранявший выход из зала ожидания от незаконных проникновений, ненадолго отлучился, но за это время один человек успел пробраться в зону посадки без досмотра, и весь терминал пришлось закрыть на шесть часов[46]. Истории о подобных инцидентах можно найти как на всяческих сайтах с отзывами пассажиров об аэропортах, так и в блоге Брюса Шнейера по вопросам безопасности[47].
Не стоит удивляться, что даже в эффективно действующих государствах вроде США запрещенные к провозу предметы на посту безопасности зачастую не обнаруживаются. Особенно трудно выявить детали взрывных устройств, которые по отдельности не вызывают подозрения у инспекторов. Впрочем, случается им пропускать и явно неприемлемое. В прессу просочился отчет о секретной проверке, проведенной по заказу самой TSA все в том же Ньюаркском аэропорту в октябре 2006 года: инспекторы не прошли двадцать из двадцати двух тестов, во множестве прозевав уже не маникюрные ножницы и тюбики с жидкостью, а пистолеты и муляжи взрывных устройств. В репортаже ABC News на эту тему утверждалось, что в ходе предыдущих проверок в разных аэропортах США провал сотрудников безопасности нередко оказывался стопроцентным[48]. TSA не разглашает результаты своих внутренниз проверок, так что нелегко разобраться, как они проводятся и что при этом выясняется, — в частности, тестируется ли прохождение через контроль деталей взрывных устройств и иного оружия в разобранном виде. Разве что сами пассажиры иногда рассказывают пост-фактум, что им удалось пронести что-то незаконное: один бизнесмен даже по забывчивости оставил в ручной клади пистолет, и это сошло ему с рук[49].
Две наиболее резонансные попытки взрыва американских авиалайнеров после 11 сентября сопровождались провалами служб безопасности. В первом случае пресловутый «башмачный террорист» Ричард К. Рид поместил пластиковую взрывчатку в пустотелые каблуки своих ботинок — этого бы хватило, чтобы проделать хорошую дыру в фюзеляже. При первой попытке вылететь из Парижа в Майами 21 декабря 2001 года его не пустили на борт из-за внешнего вида и других подозрительных признаков: так, он не сдал ничего в багаж. Однако после допроса во французской полиции его зарегистрировали на такой же рейс, вылетавший на следующий день. На этот раз Риду удалось попасть в самолет, но уже в воздухе он с нескольких попыток не смог зажечь шнур, ведущий к бомбам в башмаках. По-видимому, рассуждали потом эксперты, в башмаки проникла влага — либо пот, либо вода, поскольку за сутки между первой и второй попытками он попал под дождь. Рид — сын белой англичанки и иммигранта с Ямайки — уже взрослым человеком принял ислам. Он провел какое-то время в тренировочном лагере боевиков в Афганистане и за два года жизни в Пакистане имел немало контактов с деятелями «Аль-Каиды». Эти характерные обстоятельства его биографии не были обнаружены не только французскими властями (и сотрудниками американской авиакомпании), но и знаменитыми израильскими службами безопасности: в июле 2001 года Рид прилетал в Израиль и успешно прошел проверку авиакомпании El Al. На суде в США он признался (вернее, заявил, поскольку независимых доказательств нет), что является членом «Аль-Каиды» l. Для Рида результатом стало пожизненное заключение. Для нас, остальных, — предписание снимать обувь в аэропортах.
Возражая против этой процедуры, один блоггер задал чисто риторический, как ему казалось, вопрос: «А если бы Ричард Рид спрятал взрывчатку в ширинке мешковатых брюк, нам что, пришлось бы спускать штаны перед каждым проходом на посадку?»[50]. Спустя несколько лет он получил вполне конкретный ответ — после того, как «бельевой террорист» Умар Фарук Абдулмуталлаб под Рождество 2009 года попытался взорвать самолет компании Northwest, летевший из Амстердама в Детройт. Умар зашил в нижнее белье ту же пластиковую взрывчатку, поместив ее в мягкий контейнер длиной 6 дюймов. На взрывчатку этого типа (PETN) сканеры не реагируют, поэтому он, как и Рид, благополучно прошел досмотр. Новость о том, что нечто запретное можно сделать недоступным для проверки, спрятав в белье, потребовала новых ответных мер. Власти не стали требовать от пассажиров раздеваться догола, как иронически предложил еще один блогер: был избран вроде бы более приемлемый вариант с полным сканированием тела устройством Rapiscan. По моим личным впечатлениям, в пунктах досмотра таких устройств недостаточно, и потому сотрудники TSA — непонятно по каким критериям — некоторых пассажиров пропускают через Rapiscan, а остальных отправляют к обычному сканеру.
По собственным соображениям — в том числе и собирая информацию, — я уже пять раз отказался проходить полное сканирование. В последний раз сотрудник TSA просто пропустил меня через обычный сканер — фактически это освобождение от проверки, как если пассажир метро, не желая никакого сканирования, проходит на станцию через другой вход, где сканера нет. В других случаях полного освобождения я не получал, но охранники были вежливы и тщательно выбирали слова — как в разговоре с Тайнером («отказником» из Сан-Диего, о котором мы рассказали выше). В отличие от Тайнера, я соглашался подвергнуться личному досмотру. Но этот обыск никак нельзя было назвать тщательным. Инспекторы ни разу не притронулись к моим гениталиям или анусу. Возможно, вежливость и деликатность — по крайней мере, от случая к случаю — оказываются сильнее служебного долга. А может быть, все потому, что какая-то из моих социальных категорий (пожилой возраст? белая раса? «профессорская» подача? статус постоянного клиента, присвоенный авиакомпанией за частые полеты?) располагала служащих к более мягкому обращению. Так или иначе, у меня возникло ощущение, что инспекторам не нравится проводить так называемый «усиленный личный досмотр», — впрочем, мне и прежде доводилось сталкиваться со свидетельствами внутренней борьбы сотрудников TSA: служебные обязанности против правил приличия.
Сами сотрудники, отозвавшиеся на просьбу блога «Flying with Fish» поделиться своими впечатлениями о личном досмотре, говорят об этом прямо. Вот только один ответ: «Не так-то приятно приходить на работу, зная, что мои руки будут прикасаться к интимным частям тела других мужчин — задницам, внутренней стороне бедер. Еще неприятнее прощупывать жировые складки у тучных пассажиров, а таких нам попадается много!»[52] Другие отклики выдержаны в том же духе: инспекторам не нравится вторгаться в чужое личное пространство — даже это снижает их шансы обнаружить у пассажиров запрещенные химикаты, порошки и яды. В то же время мои друзья — один мужчина и одна женщина — рассказывали мне, что, когда им случилось попасть на личный досмотр, инспекторы (соответствующего пола) обшарили их буквально с головы до ног. По-видимому, для решительных обобщений у меня слишком мало материала.
Само различие между разрешенным и запрещенным к провозу не столь незыблемо: изобретательные люди могут сделать опасными самые безобидные предметы. Так, в оружие можно превратить детали багажа (острые металлические части окантовки, ручки чемодана) или отодрать что-то в самом самолете (особенно в туалете, где никто не видит). Полезный урок в этом смысле можно почерпнуть из опыта тюрем: заключенные весьма хитроумно делают оружие из самых обычных вещей. К примеру, заточки делаются из зубных щеток, расчесок, деталей спортивных тренажеров. В орудия насилия — скорее друг против друга, чем против охранников — превращаются фрагменты забора, камни из стены, куски открытой проводки. И все это происходит в пространстве тотального контроля, где никакие гражданские свободы не действуют, а за заключенными постоянно следят. В сектор Газа — по своему положению он во многом напоминает тюрьму — израильские власти запретили ввоз бетона, стали и других стройматериалов (хотя они необходимы для сооружения школ, жилья и объектов инфраструктуры): ведь все это можно пустить на изготовление оружия и возведение бункеров.
Аэропорт — пространство и более сложное, и более открытое, здесь возможностей для подрывных действий куда больше. Так, голландский журналист Альберто Стегеман, мастер журналистских расследований, придумал необычайно хитроумную схему обхода системы безопасности с помощью магазина беспошлинной торговли. Там продается много жидкостей — алкоголя и парфюмерии. Стегеман купил бутылку белого рома в расположенном перед зоной досмотра беспошлинном магазине аэропорта Схипхол — того самого, где сел в самолет «бельевой террорист», — в туалете аэропорта наполнил ее вместо рома водой, а потом вернулся в магазин и оплатил эту же бутылку во второй раз (ему снова выдали чек и снова запаковали покупку в пластиковый мешок)[53]. Этот репортер уже пользовался у властей дурной репутацией: прошлые его попытки выявить бреши в системе безопасности также были успешны, а результаты были опубликованы, — поэтому его досматривали особенно тщательно, с привлечением дополнительных инспекторов, но бутылку он благополучно пронес в самолет. Террористы, может быть, и не воспользуются этим способом — но пример Стегемана показывает, что для изощренных лазеек в сложившейся системе сколько угодно места.
Двое студентов Массачусетского технологического института подошли к вопросу о возможности перехитрить действующую систему безопасности иначе, во всеоружии своих навыков компьютерной симуляции. По их сценарию злоумышленники раз за разом отправляют в аэропорт своих агентов — для вылета разными авиакомпаниями, разными рейсами, с разным объемом и содержанием багажа и т. д. Постепенно собирается статистика: кому, с какими вещами, с какими документами удалось успешно пройти досмотр. В результате возникает что-то вроде «контрориентировки»: образ благонадежного пассажира с не вызывающими подозрения предметами; именно этим образом и должен будет в итоге воспользоваться террорист. Студенты пришли к выводу, что лучший метод проверки — обыски по случайному принципу: только они не предоставляют будущим террористам никаких полезных сведени[54].
Руководству TSA многое из этого тоже известно. В ходе бесед с несколькими отставными чиновниками ведомства я выяснил, что они не упускают из виду ни тюремный опыт, ни возможные трансформации различных предметов. Осознают они и способность нарушителей постоянно выдумывать что-то новое и прятать запретное там, где его невозможно обнаружить при обычной проверке. Но и списки запрещенных к провозу предметов, и многие методы проверки зачастую основываются вовсе не на опыте специалистов вроде моих собеседников. Здесь, как выяснилось, задействованы другие силы. Одна из них — частные компании, стремящиеся увеличить рынок сбыта своей высокотехнологичной продукции: упомянутые выше устройства для полного сканирования — как раз такой пример. General Electric, со своей стороны, пыталась (безуспешно) вывести на рынок специальный прибор для сканирования обуви. Как мы уже видели на примере систем наблюдения для метро, поставщики преувеличивают эффективность своего оборудования. Так возникает постоянный перекос в пользу технических средств, которые предлагается считать панацеей.
Еще одной силой, стоящей за принципиальными решениями — и по спискам запрещенных предметов, и по процедуре проверки, — является Конгресс США. Поскольку безопасность касается всех, конгрессмены с удовольствием демонстрируют поддержку ее ужесточению. Стараясь не высказываться по узкотехническим вопросам, они без колебаний судят о том, каких людей и какие предметы следует или не следует допускать на борт. Когда TSA объявила, что намерена разрешить на борту самолета ножницы длиной до четырех дюймов (то есть 10 сантиметров) от шарнира, некоторые конгрессмены осудили подобное ослабление требований[55].
В свою очередь, мои информанты из TSA подчеркивали: главное — не пропустить на борт того, «что может вызвать крушение самолета». По их мнению, теперь, когда кабины пилотов защищены от проникновения посторонних, о небольших предметах — в том числе пресловутых канцелярских ножах — можно не беспокоиться. У такого взгляда, однако, есть свое узкое место: он не слишком высоко ставит опасность, в которой могут оказаться жизни стюардесс. Но выбора, вероятно, нет — выступая в Конгрессе, глава TSA пояснил: «Если каждый день обыскивать тысячи сумок в поисках ножниц и мелких инструментов, тратя на каждую по две-три минуты, это не способствует безопасности, а вредит ей»[56]. В ответ, как сообщила New York Times, сенатор от Аляски Тед Стивенс заметил, что «эта логика ему непонятна». Он предложил альтернативу: сократить число дозволенных мест багажа с двух до одного, чтобы сэкономить инспекторам время проверки. В конечном счете ножницы, несмотря на возражения политиков, были исключены из списка запретных вещей, но другие спорные предметы в нем остались (да и небольшие ножницы, насколько я могу судить по личному опыту, до сих пор иногда не пропускают). Запрет на жидкости тоже сохраняется — хотя специалисты и сомневаются в его необходимости. Между тем этот запрет создает для TSA дополнительную проблему: конфискованные бутылки воды, флаконы шампуня и прочей косметики по определению не могут считаться безопасными и требуют утилизации. А избавиться от них, как мне говорили, непросто и недешево — хотя всех деталей я и не знаю.
При всем том, например, обыскивать младенцев и проверять их подгузники запрещается: хотя к ребенку можно прикрепить бомбу, родители (и общественность) такой досмотр сочли бы неприемлемым. Калоприемники и другое подобное медицинское снаряжение выведены за пределы досмотра, равно как и ортопедическая обувь. Разрешается проносить в самолет гели и смазку для протезов, а также лекарства — «соответствующим образом маркированные». Животных проверяют только визуально, они никогда не проходят рентгеновское сканирование. Огнестрельное оружие нельзя везти в ручной клади, но можно сдать в багаж — вместе с неограниченным количеством патронов (вернее, таких ограничений нет у TSA, авиакомпании могут их вводить). Правда, перевозка оружия особо декларируется при регистрации на рейс и требует специальной упаковки. Это правило довольно либеральное по сравнению с другими странами — что логично в свете общей политики США по поводу огнестрельного оружия. Список запретных вещей и практика его применения — плоды различных компромиссов; возможно, именно поэтому реализуются эти правила с разной степенью жесткости. Как и в метро с его расставленными повсюду камерами и призывами «сообщать о подозрительных предметах», правила игры в авиационной безопасности рождаются не в результате беспристрастной работы экспертов, а в наслоения разноречивых практических факторов.
Угроза изнутри
Не только чужаки и посторонние несут угрозу системе безопасности. Есть и внутренняя угроза, связанная с разрастанием самого аппарата безопасности. Рост штатов TSA был одним из самых быстрых в истории — за исключением разве что мобилизации во Второй мировой войне: только за первый год существования Управление приняло на работу 50 000 человек. Вместе с теми, кто выполняет другие полицейские, военные и вспомогательные функции (включая грузовые авиаперевозки), количество людей, занятых в авиатранспортной системе, составляет сотни тысяч. Соответственно растут и возможности для злоумышленников занять ответственные посты: на деле можно только удивиться, как мало до сих пор было актов предательства в этой огромной структуре. В конце концов, даже те, кто изначально не замышлял ничего плохого, могут со временем измениться. Взгляды людей на мир меняются: нельзя считать их раз и навсегда законопослушными или напротив (подробнее на этом мы остановимся в другой главе). Пример «паршивой овцы» Родригеса (полицейского, заложившего самодельную бомбу в нью-йоркской подземке) показывает: чем больше овец в стаде, тем больше шансов, что одна из них окажется «паршивой».
Люди, работающие в системе безопасности, могут систематически подрывать ее даже не из злого умысла, а по рутинным организационным причинам — например, ради важной для всех бюрократических структур «чести мундира». Так, в 2003–2005 годах TSA в сговоре со своим подрядчиком в аэропорту Сан-Франциско (фирмой Covenant Aviation Security) заблаговременно предупреждала сотрудников о появлении проверяющих с муляжами бомб и другой контрабандой. По данным Управления генерального инспектора Министерства внутренней безопасности[57], охранникам сообщались не только внешние приметы негласных ревизоров, но и маршрут их передвижения по аэропорту (несмотря на это, TSA пролонгировало договор с подрядчиком еще на четыре года с суммой контракта в 314 миллионов долларов)[58].
Мы также знаем, что организации зачастую преувеличивают угрозы, которым они подвергаются, но и те, кто выступает с угрозами, тоже склонны их преувеличивать — и все это ведет к неразберихе в системе безопасности. Одним из самых сенсационных террористических заговоров в сфере авиации стала попытка четырех уроженцев Гайаны и Тринидада взорвать аэропорт JFK — его емкости для авиационного топлива и подключенные к ним трубопроводы; этот взрыв должен были нанести сильные разрушения и Нью-Йорку. Один из подозреваемых похвастался информатору ФБР, что «по сравнению с его замыслом теракт во Всемирном торговом центре покажется пустяком». То же самое твердили и задержавшие террористов власти: предотвращенный взрыв будто бы должен был затмить 11 сентября. Оказалось, однако, что конструктивные особенности трубопроводов аэропорта не позволяли устроить планировавшийся каскад взрывов. Дальше выяснилось, что информатор ФБР принял в подготовке заговора энергичную роль: именно он, например, приобрел видеокамеру, которую преступники использовали для наблюдения за объектом. А предполагаемого организатора теракта — 67-летнего иммигранта, прежде работавшего грузчиком в аэропорту (так сказать, вырастили экстремиста в собственных рядах), — ему еще и пришлось учить обращению с этой камерой[59].
На помощь приходят обычные люди
Как мы могли убедиться (и убеждаемся все больше), есть множество причин, в силу которых работа службы безопасности дают сбой. Но среди этого множества факторов критически важно то, что близорукая система управления и контроля мешает нормальным людям разбираться в ситуации и друг в друге. Людям свойственно пользоваться всеми своими органами чувств, и практически без передышки. Они видят то, что происходит вокруг — не только у себя перед носом, но и сзади, сверху, снизу, по сторонам. улавливают детали и частности, обращая внимание на самые разные приметы: словесные, визуальные, осязательные, обонятельные, на выражения лиц, на смех, на лицевую мимику и телесную пластику. И весь этот набор элементов они схватывают не по очереди, а в целом, единым гештальтом, осознавая общую картину либо мгновенно, либо в виде калейдоскопической серии острых озарений. «Работники безопасности», назовем их так, тоже на это способны, но их от этой способности систематически отучают. В одном из разделов социологии — «этнометодологии» — существует понятие «индексность»: суть его в том, что человек осознает происходящее вокруг за счет установления взаимосвязей между всем, что попадает в его поле зрения. Отсекая целые массивы информации, получаемой за счет болтовни и шуток, повседневного общения на посторонние темы[60], режим безопасности блокирует поступление сведений, которые могли бы быть получены «между прочим». Мы уже видели в прошлой главе, что работники метро не могут объяснить, каким образом они понимают, что сейчас что-то произойдет. Они раз за разом повторяют: мы «просто это знаем», а иногда говорят о «шестом чувстве». Это неосознанное знание основано на интуитивном стремлении человека к комплексной оценке ситуации.
Поэтому не стоит удивляться, что потенциальных (а иногда и реальных) террористов задерживают благодаря бдительности обычных людей, а вовсе не тех, кто профессионально обеспечивает безопасность. Например, замысел «башмачного террориста» Ричарда Рида сорвали пассажиры и экипаж самолета. Один из пассажиров сообщил стюарду, что чувствует запах дыма. Тот, увидев, что Рид зажигает спичку, предупредил его, что это запрещено. Когда же стюард вернулся и заметил, что тот снова пытается зажечь спичку, он вступил с Ридом в борьбу, в нее включились несколько пассажиров и еще один член экипажа. Они связали террориста ремнями безопасности и шнурами от наушников[61]. А двое врачей, находившихся на борту, ввели ему транквилизатор из самолетной аптечки[62].
«Бельевому террористу», летевшему в Детройт, также помешали совершить преступление пассажиры и экипаж. Он прошел проверку, когда садился в самолет компании KLM, и еще одну при пересадке на американский авиалайнер в Амстердаме. Проведя девятнадцать часов на борту двух самолетов и пролетев три континента, террорист наконец попытался привести в действие свою бомбу, используя в качестве детонатора шприц с зажигательной смесью[63]. Заметив дым и огонь, пассажиры начали действовать (главным героем оказался голландский продюсер): они побороли преступника. Стюарды погасили пламя огнетушителями. Все сложное оборудование в аэропорту, все правила безопасности, включая запрет на провоз жидкостей, острых предметов и металлических деталей, не остановили террориста с его смертоносным грузом. Это сделали люди, и никакой паники на борту, кстати, не было.
Основные выводы
Похоже, милитаризм побеждает даже в столкновении с рынком, создавая резкий контраст с поведением сотрудников авиакомпаний, которые сперва встречают вас у стойки регистрации, а затем уже на борту самолета возникают, после всех процедур безопасности, как свет в конце тоннеля. Исследование, проведенное в Корнеллском университете, оценило дополнительные издержки авиакомпаний в связи с обеспечением безопасностью в 2002 году более чем в 4 миллиарда долларов[64]. В 2004 году, по словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта, эта сумма возросла до 5 миллиардов долларов[65]. После 11 сентября из-за введения только одной новой процедуры — проверки вещей, сдаваемых в багаж (она действовала в 2001–2002 годах) — количество авиапассажиров в США сократилось на 6%: люди предпочли путешествовать на поезде, на автобусе, на машине (в пятидесяти самых загруженных аэропортах страны пассажиропоток уменьшился на 9%). Поскольку в разных аэропортах эта процедура вводилась постепенно, специалистам Корнеллского университета удалось исключить другие факторы, способные повлиять на эту ситуацию, — например, изменение экономической ситуации или страх перед терроризмом[66]. По данным опроса, проведенного туристической корпорацией Orbitz Travel, 11% путешествующих заявили, что отказались от полетов или стали летать реже именно из-за режима безопасности. Особенно возражали против «посягательств службы безопасности» женщины (31% против 4% мужчин) — а ведь это было еще до введения полного сканирования тела и «усиленного личного досмотра»[67].
Если ужесточение режима безопасности вынудило часть пассажиров отказаться от полетов в пользу поездок на автомобиле, то это значит, что кого-то из них эта перемена убила. Согласно другому исследованию Корнеллского университета, за первые два года после терактов в автокатастрофах погибло 2300 человек, причем непропорционально высокая доля смертей пришлась на дороги Северо-Восточного коридора от Бостона до Вашингтона, где замена авиаперелета на поездку по скоростному шоссе выглядела наиболее логичной[68]. Как отметил обозреватель New York Times Нэйт Силвер, «на авиатранспорте, чтобы погибло столько народу, должны разбиваться четыре заполненных «под завязку» Боинга-737 в год»[69]. В собственных выводах исследователи из Корнеллского университета подчеркнули: «Теракты могут иметь непредвиденные последствия, по своей серьезности не уступающие самим этим атакам»[70]. Необходим, делают они вывод, баланс между неудобствами, связанными с режимом безопасности, и мерами предосторожности, способными убедить людей в том, что им ничего не угрожает. На мой взгляд, существующий баланс неправомерно смещен — и больше создает людям неприятности, чем защищает от них.
Потеря клиентов — не единственная проблема, с которой столкнулся из-за режима безопасности бизнес авиаперевозок. В обстановке растущего беспокойства в связи с действиями «бельевого террориста» TSA издала директиву, в которой рекомендовало пассажирам сдавать как можно больше вещей в багаж и обходиться минимумом ручной клади. Разъяснялось, что это ускорит прохождение усиленной процедуры досмотра. Но одновременно, надо полагать, это замедляет процедуру регистрации и уж точно заставляет тратить больше времени на получение багажа после посадки. В результате в соответствующих зонах аэропортов, и без того уязвимых в плане безопасности, скапливается еще больше людей. Кроме того, больше багажа — больше и задержанных рейсов в связи с необходимостью изъять с них багаж пассажиров, не явившихся на посадку (еще одна мера безопасности). И уж в любом случае эта инструкция вступала в противоречие с усилиями авиакомпаний, которые, наоборот, стремились снизить количество вещей, сдаваемых в багаж (это ресурс экономии средств и, стало быть, увеличения прибыли).
Кроме того, TSA обратила внимание на то, что «бельевой террорист» в самолете ждал почти до конца, собираясь привести бомбу в действие в последний час полета. Из этого был сделан вывод: пассажирам немедленно запретили держать что-либо на коленях (в том числе ноутбуки) менее чем за час до приземления. В тот роковой Рождественский вечер я как раз оказался в самолете. Поскольку мой полет из Ванкувера в Лос-Анджелес продолжался всего два с половиной часа, значительную его часть нам, пассажирам, пришлось провести без возможности держать что-то на коленях. Позднее я увидел на официальном сайте авиакомпании Air Canada такое сообщение: «Новые правила, введенные американским Управлением по безопасности на транспорте, также ограничивают действия пассажиров и экипажа на борту самолета в воздушном пространстве США, что может отрицательно сказаться на обслуживании в полете. Среди прочего, в течение последнего часа полета пассажиры не должны вставать с мест, не получат доступа к ручной клади и не смогут держать на коленях личные вещи и другие предметы»[71]. Такие правила, несомненно, вредят бизнесу авиакомпаний.
Иностранцам, желающим посетить США, перед поездкой надо заполнить электронную анкету, ответив на вопросы о том, употребляли ли они наркотики, не страдают ли душевным заболеванием и не подвергались ли аресту. К тому же для въезда в США нужно сдать отпечатки пальцев и (что зачастую непросто) получить визу. Американская индустрия путешествий от всех этих сложностей несет убытки. Ассоциация туристических организаций США официально выступила с возражениями против этих правил, особенно в отношении граждан Китая, Бразилии и Индии, которые в наибольшей степени склонны посещать США, но при этом сталкиваются с особыми трудностями при таких поездках[72].
Есть несколько прецедентов недвусмысленного протеста. Так, в 2010 году глава British Airways Мартин Брафтон посетовал, что мировая индустрия авиаперевозок должна «пресмыкаться» перед американцами, выполняя их требования — например, вынуждая пассажиров вынимать ноутбуки из футляров или снимать обувь[73]. Глава официальной ассоциации европейских аэропортов — Международного совета аэропортов Европы — заявил: «Очевидно, что большая часть последних новшеств в области безопасности аэропортов продвигается Соединенными Штатами». Далее он призвал, в частности, положить конец «бесполезному дублированию»[74]. Топ-менеджер британской компании EasyJet, вслед за многими другими высокопоставленными авиачиновниками, жаловался на то, что «непродуманные повальные проверки создают неудобства для всех пассажиров», хотя существуют «более разумные процедуры» в этой области[75].
Гегемония США в сфере безопасности связана с тем, что эта страна вообще играет ведущую роль в выработке стандартов мировой коммерции — так что ее правила явочным порядком превращаются во всемирные стандарты. Стандартизация начала интенсивно развиваться в послевоенную эпоху, когда различные государства создали разветвленную сеть двусторонних и многосторонних соглашений в этой сфере. В настоящее время координация официально осуществляется через подконтрольное ООН ведомство: из него, в частности, единообразные правила безопасности отправляются для освоения в 15 обучающих центров в разных странах[76]. Те, кто летает в разные страны, привыкли к тому, что сообщения стюардесс везде практически идентичны. Как и многое другое, связанное с современными реактивными самолетами (основанными на конструкции бомбардировщиков и транспортников времен Второй мировой войны), эти формулировки заимствованы у американцев. Центральное место США в мировой авиатранспортной отрасли постоянно поддерживается с помощью Пентагона и Федерального управления гражданской авиации. Конструкция вспомогательного авиационного оборудования (например, трапов), система обработки багажа и даже — особенно в условиях нынешнего «запрета на ножи» — организация питания пассажиров также соответствуют американским стандартам. Авиастроители и перевозчики, которые их не соблюдают, не будут допущены в американские аэропорты, что для любой фирмы означает огромные убытки. Поэтому очень многие элементы авиатранспортной индустрии во всем мире одинаковы, а на борту самолетов и в залах ожидания мы видим одни и те же надписи — пусть и на разных языках. Невзирая на культурные различия, в области безопасности бал правит американская модель.
Театр доминантности?
Поскольку очень многие элементы системы безопасности в аэропортах (и не только в аэропортах) выглядят просто абсурдными, возникает соблазн назвать все это «театром безопасности»[77] и рассматривать как преднамеренный способ заставить людей выступать в роли просителей и с пиететом относиться к власти. Некоторые говорят: главное здесь — вызвать у них ощущение беспокойства. В условиях «бескомпромиссной войны с террором» в представлении должны участвовать все, кто всерьез неравнодушен к ситуации — в том числе и «сознательные» пассажиры. Любое другое поведение будет выглядеть проявлением слабости и нежелания выполнять свой долг.
Сколь бы правдоподобным это ни казалось, лично я не думаю, что речь идет об изощренном заговоре. Не с чего приписывать дальновидность и стратегическое мышление системе, в которой, как показали исследования Керри Фошер о происхождении «групп реагирования» после терактов 11 сентября, царит неразбериха. Трудно поверить, что результаты, которые мы наблюдаем, кто-то мог предвидеть. Вместо тщательно спланированного замысла я вижу здесь близорукость и упрямство мировоззрения, сфокусированного на администрировании и контроле. Оно небезопасно само по себе, но и его корни, и его последствия могут быть различны. Дьявол здесь, как всегда, кроется в деталях — и не только того, что делается, но и того, что не делается. На объектах системы безопасности мы не видим профессионального дизайна, искусной и расчетливой организации, потому что для всего этого нужен более широкий взгляд на вещи, учитывающий всю многосторонность жизни. Соответствующим ведомствам пришлось бы нанимать на работу дизайнеров или искать хороших внешних консультантов, а потом доказывать чиновникам Министерства внутренней безопасности, Конгрессу и Белому дому необходимость финансовых вложений в продуманность и многофункциональность. Тип людей, занимающихся безопасностью аэропортов, и обстановка, в которой они работают, не способствуют подобным действиям и альтернативным решениям, к которым они могут привести.
Что делать?
Любые реформы в обсуждаемой области должны основываться на понимании того, что угрозы аэропортам, как и другим защищаемым объектам, носят предположительный характер. Власти не знают, что с этим делать, но и те, кто критикует, в большинстве своем знают не больше. Нам неведомо, откуда и от кого исходит угроза, какая беда может случиться и где именно. Предлагаемые мной решения — как и в случаях с другими объектами, о которых идет речь в этой книге, — исходят, тем не менее, из предположения, что делать что-то нужно — хотя бы по той причине, что и общественность, и политики требуют действий, непрерывной активности и практических результатов. И для начала надо ослабить командный пафос, стремясь вместо этого к помощи людям, сочувствию и юмору.
Вот мои предложения.
Помощь
Помогая людям, мы не просто делаем доброе дело, но и получаем информацию. Каждый, кому приходилось помогать ребенку надеть куртку, понимает, что при этом многое узнаешь: не болит ли у ребенка рука, прихватил ли он со стола печенье, нет ли у него температуры. Прикасаясь к людям (и их вещам) ради помощи, а не обыска, тоже узнаешь немало. И когда человек отказывается от помощи, хотя явно в ней нуждается, — это снова полезные сведения: может быть, он скрывает что-то требующее внимания — будь то ущерб, который нанесен ему, или ущерб, который он сам может нанести.
Вступая в беседу, даже «для проформы», мы тоже получаем информацию. Стюардессы рассказывали мне: когда они стоят у входа в салон и обращаются к пассажирам с дежурными приветствиями, они ищут и признаки возможных проблем. У кого-то слишком много вещей, а этот не дотянется до багажной полки, а этот, кажется, пьян, а вот тот, похоже, не говорит по-английски. Такое общение — которое часто считают формальным и неискренним, которое в социологии традиционно рассматривается как «неблагодарная эмоциональная работа», — позволяют экипажу упредить неприятности. В любом случае эмоциональная вовлеченность — важнейшее «встроенное средство», которым вы располагаете в любой ситуации, в том числе профессиональной. Дружелюбие, заинтересованность и помощь другим, конечно, не единственный источник разведданных, но один из источников — несомненно. Помогая человеку приспособиться к положению, в котором он оказался, вы многое узнаете о происходящем — так что доброта информативна. А если она к тому же приносит пользу ближнему — тем лучше.
Дизайн, черт возьми!
Предметы и оборудование в пунктах досмотра также можно в куда большей степени нацелить на помощь людям. Чашу, в которую вы кладете мелочь, можно было бы снабдить «носиком» — тогда монетки было бы легче ссыпать обратно в ладонь. Если бы «серые лотки» (а в США они и вправду обычно имеют серый цвет) были прозрачными, мы могли бы видеть, лежит в них что-то или они пусты. Это целесообразно не только для самой службы безопасности: пассажирам было бы легче следить за своими вещами при прохождении досмотра — что не только сделало бы процедуру комфортнее, но, возможно, и ускорило бы движение очереди. Снизилась бы и вероятность того, что лоток с ноутбуком перевернут, приняв за пустой, как я рассказывал чуть выше.
И, если уж говорить о простейших удобствах, почему бы в торцах конвейера, на который мы ставим ручную кладь, верхнюю одежду и обувь для сканирования, не пристроить приступку, на которую можно поставить ноги? Это бы облегчило жизнь всем, кому надо развязать и завязать шнурки. Замахнемся и на большее: пассажирам надо дать возможность ставить сумки на пол, а оттуда специальный подъемник мог бы доставлять их в сканирующее устройство. Это поможет нездоровым и немолодым людям, но не только им. Или вот еще: в Гонконге, когда у металлодетектора вы складываете мелкие предметы (часы и т. п.) в дополнительный маленький лоток, вам выдают номерок, чтобы после досмотра не перепутали свой лоток с чужим.
Конечно, полномасштабная реформа дизайна заставляет ожидать намного большего, чем удачно расположенный носик, подставка для ног или номерок. Искушенные дизайнеры и эргономисты могли бы переустроить весь процесс и каждый из его элементов. По всему миру, в частном и государственном секторе экономики это постоянно происходит — причем по куда менее важным поводам. В целом акцент должен делаться на улучшении условий и настроения пассажиров, и среди ключей к решению этой задачи — подбор персонала и его подготовка (к этому же выводу мы пришли в предыдущей главе в связи с проблемами метро).
Кстати, в 2009 году TSA и дизайнерская фирма IDEO в конце концов приступили к проработке прототипов, призванных усовершенствовать как дизайн, так и эргономику системы безопасности аэропортов, — и в основе предполагавшегося проекта лежал в значительной мере именно описанный мною подход. Однако экспериментальный пункт пропуска в международном аэропорте Балтимор/Вашингтон, похоже, так до сих пор и остается единственным материальным воплощением этого проекта — разве что лотки теперь иногда делаются полупрозрачными. Почему этим не занялись гораздо раньше, и почему результаты настолько не прижились? Сотрудники TSA, с которыми я неофициально консультировался, сообщили мне, что весь этот круг вопросов крайне далек от верхушки TSA и ее вышестоящего начальства в Министерстве внутренней безопасности — они имеют крайне смутное представление о самом существовании такой профессии и связанных с нею консалтинговых услуг. Поэтому проект IDEO уже одним словом «дизайн», а затем и прочей своей фразеологией — например, концепцией «диалога с клиентами», — навлек на себя подозрения чиновников и политиков как «легкомысленный». Сторонникам новых веяний пришлось сражаться с этими подозрениями не только в собственном ведомстве и в Министерстве, но и на уровне Конгресса.
Успокоим очередь!
Противоположность суматохе и беспорядку — спокойствие, и вот в нем-то система безопасности и нуждается более всего. Причем это далеко не только вопрос заботы о самочувствии пассажиров. Дело в том, что на фоне общего спокойствия куда заметнее выступают любые островки беспокойства — будь то террорист, контрабандист или просто человек, плохо почувствовавший себя в очереди. Напротив, скопление взволнованных пассажиров в пунктах досмотра маскирует волнение тех, кому есть что скрывать, окружающим волнением тех, кто просто боится что-то сделать не так. На тренинге для сотрудников TSA представители IDEO показали пару фотоснимков, представляющих этот парадокс в драматически заостренной форме: на одном из них акула среди бурного моря, на другом — среди спокойного. Трудно придумать более эффективный способ донести проблематику спокойствия до людей с милитаристским складом сознания (и вот свидетельство того, насколько важна художественная выразительность визуального инструментария при обсуждении серьезных вопросов). IDEO предлагала цветовую гамму, фоновую музыку и даже запахи, а также информационные видеоролики, помогающие пассажирам разобраться в дальнейшем передвижении и понять, как надо «освобождаться» от верхней одежды и «привольно» располагать ручную кладь на ленте транспортера. Не забыли они и про «ободряющие напутствия» (снова отдавая дань военизированному лексикону)[78].
В некоторых аэропортах реализуются художественные программы: искусство служит хотя бы частичному воссозданию в стенах аэропорта нормальной городской жизни. Так, в США в аэропорту Сан-Франциско вдоль коридоров и траволаторов — движущихся дорожек установлены витрины с эффектными арт-объектами — кстати, по таким же дорожкам зрители двигались мимо «Пьеты» Микеланджело на Всемирной выставке 1964 года в Квинсе. Кое-какие идеи можно позаимствовать и у диснеевских парков развлечений, где к несчетным миллионам посетителей, ждущих своей очереди, выходят развлекать и отвлекать их мультипликационные персонажи: Гуфи, Микки-Маус и Белоснежка. Вместо того, чтобы ультимативно требовать от людей следования некоторым правилам поведения, их аккуратно «подталкивают» в сторону действий и реакций, правильных с точки зрения общественного удобства, спокойствия и порядка[79]. Точно так же в некоторых магазинах — например, в супермаркетах сети Whole Foods, — покупателям, стоящим в очереди, предлагают скрасить ожидание, попробовав образцы товаров, и сотрудники приветливо разъясняют, чем эти товары хороши. Дружелюбие встроено в систему и представляет собой элемент эргономики: «вежливость заразительна», очередь будет двигаться быстрее и четче, поскольку покупатели будут меньше ворчать и суетиться.
В нью-йоркском Музее Гуггенхайма в рамках одной из выставок применили оригинальную схему дружелюбия и контроля «два в одном», рассчитанную одновременно на расширение зрительского опыта и защиту произведений искусства. Музей по сути создал новый тип сотрудников — они ходят по залам и завязывают с посетителями беседы об искусстве, рассказывая об экспонатах. Защитная функция тут в том, что люди в результате не трогают произведения и не вторгаются в них иными способами: ведь наряду с художественным содержанием произведения сотрудники разъясняют и правильный способ взаимодействия с ним, и границы его уязвимости (например, к прикосновениям) — что особенно уместно в отношении инсталляций, не дающих зрителю однозначного представления о том, как он должен себя вести. Некоторые произведения современного искусства предназначены для того, чтобы их трогали, чтобы по ним ходили и стучали, или даже чтобы от них откусывали кусочек, а другие — нет[80]. И «смотритель» нового типа ненавязчиво помогает посетителю в этом разобраться. Этот род деятельности сродни организатору вечеринки — привлекательному человеку, нанятому для того, чтобы вовлекать гостей в веселье, приглашать на танец слишком застенчивых и создавать атмосферу, в которой все могут хорошо проводить время. Подобный социальный навык было бы хорошо внедрить в систему безопасности. Сотрудники Гуггенхайма были молоды и, как все музейщики, с энтузиазмом относились к делу, но ведь и охранников в аэропорту можно подбирать по общественному темпераменту, сообразному людям, с которыми они имеют дело. Может быть, на досмотр рейса, уносящего людей из Нью-Йорка на пляжи Флориды, стоит поставить балагура, который будет перешучиваться с пассажирами: «А что это вы не улыбаетесь? Наверняка у вас бомба в заднице, мистер!»
Любого рода информацию легче получить, если беседа ближе к свободному общению, чем к напряженному допросу. Сотрудники израильской службы безопасности, пользующиеся уважением у коллег по всему миру, не задают серию шаблонных вопросов вроде «Сами ли вы паковали свой багаж?». Они стараются спрашивать так, чтобы из ответов складывалась история. У пассажира могут поинтересоваться, куда он летит, по каким делам, с кем будет встречаться, почему именно с этими людьми и именно в этом месте, что будет делать дальше, и т. д., и т. п. Идея заключается вот в чем: если человек лжет, у него не получится связный рассказ, а если ответы отрепетированы заранее, то «домашние заготовки» рано или поздно закончатся, и собеседник занервничает, не зная, как продолжить. Конечно, пассажир может оказаться и просто застенчивым, косноязычным или импровизатором по жизни, понятия не имеющим, каковы его дальнейшие планы. И тогда вполне естественное для человека поведение может внезапно обернуться подозрениями в его адрес. Поэтому желательно, чтобы расспросы стали элементом общей готовности помочь.
Один из способов уменьшить неудобства, связанные с очередями, — попросту сократить их. Аналитики RAND, изучив ситуацию в Международном аэропорту Лос-Анджелеса, пришли к выводу, что увеличение штата и оборудования всего на 20% позволит полностью избавиться от очередей и ожидания при досмотре[81]. Такие же сравнительно небольшие дополнительные расходы, уверяют авторы доклада, покончит и с очередями при регистрации. А если сократить время ожидания багажа до одной минуты (чего, конечно, добиться труднее), то, полагают эксперты, вероятное количество жертв при взрыве бомбы в этой зоне сократится вдвое.
Дорогу юмору!
Возможность посмеяться всегда на пользу — будь то в очереди или на любом другом шаге в цепочке действий. Пример подает компания Southwest Airlines, чей «фирменный знак» — разрыв стереотипов и взрыв веселья хотя бы один раз за рейс. Так, в самолете Southwest я слышал такое объявление по громкой связи: «В случае чрезвычайной ситуации на этом грязном синем ковре зажгутся лампочки. Слушайтесь нас, и останетесь целы. Если вам не нравится наше обслуживание, можете покинуть самолет через аварийные выходы». А в конце шутливой тирады стюарда на тему «пристегните ремни» пассажиры, как правило, аплодируют. И еще пример, взятый из Интернета — со специального сайта, посвященного юмору в этой авиакомпании: «Подушки ваших кресел можно использовать в качестве надувных матрасов. В случае экстренной посадки на воду гребите к берегу. Доплыв до него, можете оставить подушку себе как сувенир от нашей компании».
Впрочем, если юмор поощряет только одна авиакомпания, это небезопасно. Пассажиры могут взять этот опыт на вооружение и употребить на другом рейсе и в другом аэропорту, где это вызовет только гнев и раздражение сотрудников. Поэтому, чтобы не повредить людям, считающим, что и во время авиаперелетов можно вести себя по-человечески, такие перемены должны стать всеобщими. Иначе получится, что Southwest попросту провоцирует пассажиров. Открывая дорогу юмору, как нормальному проявлению человеческой природы, мы также можем получить еще один источник информации — о том, что люди думают, в чем нуждаются, чем угрожают, какие большие и малые неприятности могут произойти. Поверьте, игра стоит свеч.
Покончим с категоризацией
Стереотипы восприятия — неизбежный элемент работы человеческого сознания. Чтобы понять, что к чему, необходимо проводить различия, а это связано со стереотипами. Стереотипы всегда наготове, они вступают в дело в мгновение ока, но обеспечиваемая ими эффективность всегда недостаточна. Особенности одежды, осанки, цвет кожи, телосложение и поведение — для того, чтобы сделать окончательное заключение, все играет роль. Поэтому нам не нужны программы и инструкции, распределяющие людей по группам и категориям, — это распределение и так происходит само собой. Как минимум часть специалистов в области безопасности убеждена: попытки подходить к людям с готовым и официально утвержденным набором категорий и мерок приводят к неточным и неэффективным действиям. Даже если у таких инструкций и был полезный потенциал, он исчерпан — и для пассажиров[82], и для властей.
Некоторые выступают за «принятие решений на основе оценки риска»[83] , — имея в виду, что следует оценивать рельные обстоятельства, а не применять механически готовые схемы. Однако категоризация всегда является частью этих технологий, пусть даже ее так не называют, или результаты ее объявляют всего лишь лишь частью более обширного списка критериев. И снова: нарушители могут узнать, из каких элементов состоят такие системы — и снизить таким образом их эффективность. Напротив потенциальных прибылей в бухгалтерской книге рисков значатся отчуждение и раздражение, всегда представляющие собой опасность. Мы должны принять во внимание низкую эффективность и, да, несправедливость, — и отказаться от категоризации в процессе поиска террористов. Ее потенциал должен быть обращен на поиск тех, кому необходима помощь, а это парадоксальным образом, может помочь нам определить тех, кто представляет угрозу — какого бы то ни было рода. Информация, — как я не устаю напоминать, — это хорошо.
Будем компенсировать
Конкретным противоядием против категоризации, официальной или иной, может оказаться практика компенсаций пострадавшим, — вполне рыночное средство, которое следует использовать против ложных срабатываний и связанной с ними несправедливости. Если вам слишком надоедали, а в особенности если вы пропустили свой вылет, вам положено что-то взамен. Это может быть бесплатный билет или апгрейд. Компенсацией за менее серьезные ошибки служащих (дополнительный обыск с целью обнаружить металлический предмет, которого у вас нет) может быть несколько бесплатных миль или что-нибудь съедобное. Это создаст внутренние организационные стимулы к минимизации ущерба, наносимого пассажирам. Подобная практика может также изменить социальную значимость «арабской внешности» — или любых других признаков, по которым происходит стигматизация. Их обладатели окажутся пассажирами первого класса с пакетиками кешью в руках и не должны будут отстаивать длинные очереди в туалет. Все это, разумеется, затруднит менеджмент, но мне кажется чрезвычайно показательным, что ни в литературе по безопасности, ни в публичных дискуссиях нет ни намека на возможность таких компенсаций. Почему бы не попробовать, — тем более, что такая практика вполне совпадает с общим неолиберальным рыночным вектором нынешнего времени?
Смысл моих предложений еще и в том, чтобы покончить с социальной стерильностью комплекса мер безопасности, впустить в него окружающий мир: юмор, эстетику, социальность, заботу друг о друге и сострадание — не забывая при этом, конечно и о бесплатных милях. Как и общественные туалеты, принципиально отсекающие множество вещей из нормальной жизни (с пересекающимся, пусть и не точно таким же списком запретов), насильственное выделение коридоров безопасности в отдельное социальное пространство порождает напряжение как таковое, — и парадоксальным образом, снижает уровень безопасности.
Впервые опубликовано: Molotch H. (2014). Against Security: How We Go Wrong at Airports, Subways, and Other Sites of Ambiguous Danger. Princeton, Oxford: Princeton University Press. P. 85–127.